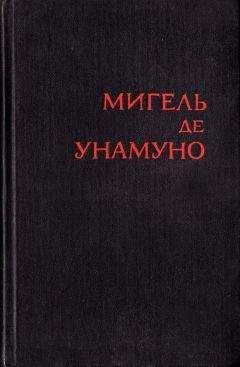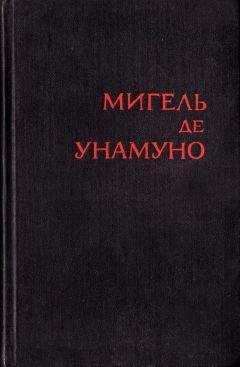– А ты уверен, – спросил его Авель, захваченный серьезностью разговора, – что Авель похвалялся своим успехом, милостью, в которую он попал?
– Ни на минуту не сомневаюсь! Он никогда не выказывал требуемого почтения к старшему своему брату, никогда не просил у господа милости для него. Мало того, все эти последователи Авеля, все эти маленькие авельчики, выдумали ад и адские мучения для маленьких каинчиков только потому, что без этого их собственная слава казалась им бессмысленной. Высшая радость авельчиков, свободных от страданий, заключается в созерцании того, как страдают другие…
– Ах, Хоакин, Хоакин, какой же ты, право, жестокий!.
– Ну, от подобного недуга, как и от всякого другого, сам себя никто исцелить не может. А теперь дай мне этого байроновского «Каина», я хочу его прочитать.
– Вот, возьми!
– А между прочим, Авель, твоя жена ничего тебе не подсказывает для этой картины? Не пробуждает в тебе никаких ассоциаций?
– Моя жена? Но ведь в этой трагедии женщина не участвовала.
– Она участвует в любой трагедии, Авель.
– Ну, разве Ева…
– Вот именно… Ева, которая вскормила их своим молоком. Зельем…
Хоакин прочитал «Каина» лорда Байрона, и в «Исповеди» его появилась такая запись:
«Впечатление от этой книги было жутким. Я почувствовал настоятельную потребность излить свою душу и тогда же сделал некоторые записи, которые я сохранил, и вот сейчас они здесь, передо мной. Впрочем, только ли излить душу? Нет, я сделал эти записи с целью воспользоваться ими впоследствии, полагая, что они смогут послужить мне материалом для какого-нибудь замечательного произведения. Все мы снедаемы тщеславием. Самые сокровенные и постыдные наши язвы мы готовы выставлять на всеобщее обозрение, Я убежден, что легко может найтись человек, который пожелал бы покрыться самыми чудовищными струпьями, каких еще никто не видывал лишь бы обратить на себя внимание. Да, впрочем, разве сама эта «Исповедь» не есть нечто большее, чем простое желание излить душу?
Иной раз я подумывал разорвать свою «Исповедь», освободиться от нее. Но разве это освободило бы меня? Нет! Сто раз нет! Уж лучше выставить себя на всеобщее обозрение, взобраться на подмостки, чем мучиться от неудовлетворенного тщеславия. Ведь в конце-то концов вся наша жизнь – это подмостки, спектакль.
Байроновский «Каин» потряс меня. Подумать только с какой правотой Каин обвинял своих родителей в том, что они вкусили плода от древа познания, вместо того чтобы вкусить плода от древа жизни! Что касается меня, например, то научные занятия лишь еще сильнее разбередили мою рану.
– Да, по мне бы, хоть и вовсе не родиться на свет! – восклицаю я вместе с Каином. – Зачем они меня породили? Зачем мне жить? А вот чего я не могу понять – как это Каин не отважился на самоубийство? Это было бы самым подходящим началом для истории человеческого рода. Впрочем, почему же после грехопадения не покончили-с собой Адам и Ева? По крайней мере не было бы ни Каина, ни Авеля!.. Ах, все равно Иегова создал бы тогда другого Каина и другого Авеля! Интересно, не повторится ли эта трагедия в иных мирах, на других планетах других звездных систем? Быть может, трагедия эта имеет и другие постановки, отличные от земной? Да, впрочем, постановкой ли это было?
Когда я дошел до места, где Люцифер объясняет Каину, что он, Каин, бессмертен, я с ужасом подумал, что вот если и я буду бессмертным, то будет ли бессмертной во мне моя ненависть? «Неужели у меня есть душа, – сказал я себе, – и неужели этой душой является моя ненависть?» И тогда я подумал, что иначе и быть не может, что подобная ненависть не простая функция тела. То, чего я не смог обнаружить в других с помощью скальпеля, теперь я обнаруживал в самом себе. Бренный организм не мог бы ненавидеть так, как ненавидел я. Люцифер хотел свергнуть бога и занять его престол, а я, разве не стремился я еще с самых младенческих лет к первенству среда своих сверстников? И как мог бы я стать таким несчастным, если бы не воля всевышнего, создателя всякого несчастья?
Насколько легко и просто было Авелю пасти своих овец, настолько же легко и просто было нынешнему Авелю писать своп картины. А мне? Мне недешево обходились диагнозы недугов моих больных.
Каин сетовал, что даже Ада, столь любезная его сердцу моя Ада, моя бедная Ада, понимала душевные мои муки. И это потому, что она была верующей. Но, подобно Каину, не находил и я в сердце жены созвучия своим страстям.
Пока я, видевший столько предсмертных судорог и столько смертей, не прочитал и не перечитал байроновского «Каина», до тех пор я никогда не думал о смерти, никогда не понимал ее. А вот теперь я думал: умрет ли вместе со мною моя ненависть или переживет меня; думал о том, может ли пережить ненависть носителя этой ненависти, есть ли в пей что-нибудь субстанциальное, что передается потомству; я спрашивал себя: быть может, ненависть – это и есть душа, самая сущность души? И я начал верить и в ад, и в то, что смерть есть некое существо, есть Демон, есть олицетворенная Ненависть, есть бог души. Всему, чему не научило меня знание, научила меня страшная поэма этого величайшего ненавистника, лорда Байрона.
И моя Ада тоже нежно упрекала меня, когда я не работал, когда я не мог работать. И Люцифер так же стоял между мной и моей Адой. «Нет, не ходи за ним, за этим Духом!» – восклицала моя Ада. Бедная Антония! И она тоже просила, чтобы я уберег ее от этого Духа. Бедная моя Ада так и не научилась ненавидеть их с тою же силою, с какой ненавидел их я. Но вот стал ли я любить мою Антонию по-настоящему? Ах, если б я был способен на это, я был бы спасен! Но я видел в ней всего-навсего орудие мести. Я любил ее только как будущую мать моего сына или дочери, которые отомстят за меня, А ведь я, безумец, надеялся, что, став отцом, я смогу излечиться от ненависти. Но, быть может, я и женился лишь только затем, чтобы стать отцом подобных же ненавистников, чтобы передать им свою ненависть, обессмертить ее?
Сцена эта между Каином и Люцифером, происходившая в бездне пространства, опалила мою душу, словно огнем. Неожиданно наука, которой я занимался, представилась мне в свете моего греха, и я понял всю тщету спасения жизни тех, кто все равно обречен на страдание и гибель. Понял я и то, что бессмертная ненависть терзавшая меня, и была, в сущности, моей душой. Ненависть эта, которая, как я был убежден, наверняка предшествовала моему рождению, переживет меня и после смерти. Я холодел при мысли о бессмертии, которое бы сопровождалось вечной ненавистью. Ведь это и был ад! А я-то столько потешался над верой в него! Ведь это и был ад!
Когда я прочитал разговор Ады и Каина об их сыне Енохе, я подумал о будущем своем сыне или о будущей своей дочери. Подумал о тебе, дочь моя, мое искупление, мое единственное утешение; подумал о том, что однажды ты появишься на свет, чтобы спасти меня. А читая то, что Каин говорил спящему невинному сыну, не ведавшему своей наготы, я подумал: уж не преступление ли я совершаю, зачав тебя, несчастная моя дочь! Простишь ли ты меня за то, что я породил тебя? А прочитав то, что Ада говорила своему Каину, я вспомнил блаженные годы, когда я еще не гнался за наградами, когда я еще не стремился превзойти всех своих сверстников. Нет, дочь моя, нет, я не поверг своп научные искания к стопам всевышнего с чистым сердцем; я не искал правды и знания, но искал славы и наград и стремился превзойти его, Авеля.
Он, Авель, любил свое искусство и лелеял его, руководствуясь самыми чистыми помыслами, никогда не стремясь с помощью своего искусства вознестись надо мной. Нет, это не он отнял у меня славу, нет! А я-то, безумец, возмечтал поколебать алтарь Авеля! Боже, как я ошибался! И все оттого, что никогда не думал ни о ком, кроме себя.
Рассказ о смерти Авеля в байроновском изложении меня ошеломил. Все перевернулось во мне. И с того самого дня благодаря безбожному Байрону я обрел веру».
Антония родила Хоакину дочь. «Дочь, – сказал он себе, – а у него – сын!» Но тут же отогнал от себя дурные мысли, которые принялся нашептывать ему злокозненный дух. И Хоакин. возлюбил свою дочь со всей силой присущей ему страсти, а с дочерью вместе и мать. «Она отомстит за меня», – решил он, вначале даже не зная, кому, собственно, должна она будет мстить, но затем передумал: «Нет, поможет духовному моему обновлению».
«Впоследствии я начал записывать все это, – рассказано в «Исповеди», – для моей дочери, чтобы после моей смерти она могла узнать правду о несчастном своем отце, могла пожалеть его и полюбить его. Глядя, как она спит в колыбели, такая невинная и безгрешная, я размышлял о том, чтобы вырастить ее незапятнанно чистой. А для этого мне надо самому очиститься от своей скверны, излечить зачумленную свою душу. И вот я решил сделать так, чтобы она любила всех и прежде всего их. Тут-то, над безгрешною ее колыбелью, я поклялся освободиться от адских своих цепей… Я должен был стать глашатаем славы Авеля».