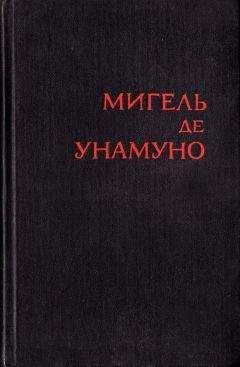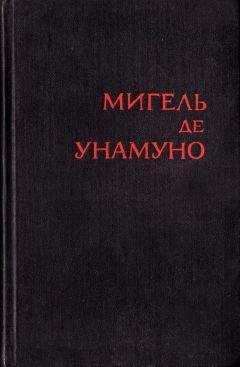Клиентура отвлекала меня, но подчас я вздрагивал при мысли о том, что состояние рассеяния и беспокойства, в котором держала меня моя страсть, помешает мне оказать должную помощь моим несчастным пациентам. Как-то произошел со мной случай, который буквально перевернул мне душу. Я лечил одну даму, заболевшую серьезной болезнью, далеко, однако, не смертельной. По какому-то совпадению вышло так, что с этой дамы Авель сделал портрет, портрет превосходный, одни из лучших его портретов – из тех, что наверняка войдут в число самых удачных его вещей. Так вот, портрет этот был первым, что бросилось мне в глаза, едва я вошел в дом этой дамы. На портрете она была совершенно живой – куда более живой, чем та страдающая плоть, что лежала в постели. Портрет, казалось, говорил мне: «Взгляни? Он дал мне жизнь. А вот посмотрим, сумеешь ли ты продлить жизнь моего двойника, там внизу, подо мною». И, сидя рядом с больной, выслушивая ее и считая пульс, я видел перед собой только другую – ту, что на портрете. Я был глух и слеп ко всему, и больная вскоре умерла; я позволил ей умереть; всему виной была моя слепота, моя преступная невнимательность. Я почувствовал ужас и отвращение к самому себе, к своему ничтожеству.
Через несколько дней после смерти этой дамы я отправился с визитом в тот же дом, к другому больному. Я вошел, заранее решив не смотреть на портрет. Но все было напрасно, ибо портрет сам смотрел на меня и притягивал мой взор. Распрощавшись, я направился домой. До дверей меня пошел проводить вдовец, хозяин дома. Возле портрета мы задержались, и я, словно подталкиваемый какой-то непреодолимой силой, воскликнул:
– Какой портрет! Это лучшее из того, что написал Авель!
– Да, – ответил вдовец, – этот портрет – величайшее мое утешение. Я провожу долгие часы, разглядывая его. И мне кажется, что она вот-вот заговорит со мной.
– Да, да, – прибавил я, – Авель – удивительный художник.
По выходе я сказал себе: «Я позволил ей умереть, а вот он воскресил ее!»
Мучился Хоакин всякий раз, когда умирал кто-либо из его больных, особенно детей, но смерть чужих пациентов оставляла его почти равнодушным. «Да и зачем, собственно, было ему жить?… – говаривал он в таких случаях. – Ведь смерть для него – настоящее благодеяние…»
Собственное душевное состояние до того обострило его способности психолога-наблюдателя, что он легко мог распознавать самые потаенные нравственные недуги. Маска внешней благопристойности вовсе не мешала Хоакину разглядеть, что мужья без особой печали – если не без восторга – предвкушают смерть своих жен, а жены ждут не дождутся смерти своих мужей, лишь бы побыстрее заполучить заранее намеченного избранника. Когда в годовщину смерти его пациента Альвареса вдова вышла замуж за Менендеса, ближайшего друга усопшего, Хоакин подумал: «То-то странной мне показалась эта смерть… Теперь понятно… Вряд ли на земле есть животное более омерзительное, чем человек! Взять, к примеру, эту добродетельную госпожу. Такая благородная дама!..»
– Доктор, – сказал ему однажды один из его больных, – прикончите меня, ради бога, прикончите меня, я больше не могу… Дайте чего-нибудь такого, что разом прекратило бы мои страдания…
«А почему бы и в самом деле не сделать того, что просит этот несчастный, – размышлял Хоакин, – если он только мучится? Мне жаль его! Ну и свински же устроен мир!»
И нередко случалось, что в судьбах больных он узнавал самого себя.
Однажды явилась к нему соседка, бедная женщина, сломленная годами и заботами, муж которой на двадцать пятом году совместной жизни вдруг спутался с какой-то уличной девкой. Покинутая жена пришла поведать ему свои горести.
– Дон Хоакин! – умоляла она. – Ведь вы, говорят, знаете все: можете ли вы дать средство, чтобы излечить бедного моего мужа от зелья, которым опоила его эта вертихвостка?
– О каком зелье ты говоришь?
– Да раз он бросил меня, прожив целых двадцать пять лет, и перебрался к ней, то рассудите сами…
– Знаешь, ведь куда хуже было бы, если б он бросил тебя, когда вы только поженились и ты была молода…
– Ах, нет, господин доктор! Она наверняка опоила его каким-то приворотным зельем, которое вскружило ему голову; иначе ничего подобного не могло бы случиться… не могло бы быть…
– Зельем… зельем… – пробормотал Хоакин.
– Именно, дон Хоакин, именно зельем… Вы же человек ученый; дайте мне средство против этого зелья!
– Эх, милая! Еще далекие наши предки тщетно пытались отыскать живительную влагу, которая бы возвращала молодость.
И когда несчастная ушла, погруженная в свое горе, Хоакин подумал; «Неужели бедняжке не придет в голову хотя бы разок взглянуть на себя в зеркало? То-то бы она увидела, что сделали из нее долгие годы тяжких трудов! Простонародье, оно все приписывает колдовскому зелью, дурному глазу, зависти… Работы не найдут – виновата зависть… Случается что-то дурное? Зависть. Тот, кто все свои неудачи приписывает чужой зависти, сам завистник. А разве мы все не завистники? Разве меня, например, не опоили зельем?»
Еще много дней он думал только о зелье. И в конце концов заключил: «Это и есть первородный грех!»
Хоакин женился на Антонии в надежде обрести тихую гавань, и бедняжка сразу же поняла свое место и назначение в сердце супруга. Она должна была стать щитом, возможным утешением. Антония получила в мужья человека больного, неизлечимого душевного инвалида. Ее судьба – быть сиделкой при нем. И она смиренно согласилась на это, движимая состраданием, преисполненная жалостливой любви к тому, кто пожелал соединить с ней свою жизнь.
Антония и сама чувствовала, что между нею и ее Хоакином воздвигнута как бы незримая перегородка, как бы кристально прозрачная ледяная стена. Этот человек не мог принадлежать своей жене, ибо этот безумец, этот одержимый не принадлежал даже самому себе. Вдруг в самых интимных порывах супружеской жизни какая-то незримая тень возникала между ними. Ей казалось, что она похищает у него поцелуи или отбирает силой.
При жене Хоакин избегал говорить об Елене, и Антония, заметив это, словно нарочно поминала ее при каждом удобном случае в разговорах за столом.
Но так было только вначале; впоследствии она избегала заговаривать об Елене.
Как-то раз Елене понадобились услуги Хоакина как врача. Осмотрев ее, Хоакин убедился, что Елена зачала. Мысль о том, что собственная его супруга, Антония, все еще бесплодна, привела беднягу в отчаяние, и он пережил минуту постыднейшего унижения, вогнавшего его в краску, ибо искушающий голос дьявола нашептывал ему: «Вот видишь? Он и как мужчина-то не чета тебе! Он, он, который своим искусством может воскресить и обессмертить тех, кому ты позволил умереть из-за твоей преступной глупости, он вскоре будет иметь сына, подарит миру нового живого человека, плоть от плоти и кровь от крови своей, а ты… Быть может, ты и неспособен на это… Он и как мужчина-то не чета тебе!»
Грустный и мрачный вернулся Хоакин в тихую гавань своего домашнего очага.
– Ты был у Авеля? – спросила жена.
– Да. А как это ты догадалась?
– По выражению твоего лица. Этот дом – сущее мучение для тебя. Ты не должен был туда ходить…
– А что я мог сделать?
– Извиниться и сказать, что не можешь! Пойми, что главное – это твое здоровье и спокойствие…
– Тебе просто мерещится…
– Нет, Хоакин, зачем ты скрываешь от меня?… – Слезы помешали ей говорить.
Несчастная Антония опустилась на стул. Рыдания сотрясали ее.
– Что с тобой, Антония, чего ты?…
– Лучше сам скажи, что с тобой происходит, Хоакин, откройся, расскажи мне…
– Мне не в чем себя винить…
– Уж будто, Хоакин! Признайся, расскажи мне всю правду!
Хоакин некоторое время колебался, словно борясь с каким-то невидимым врагом, какой-то нечистой силой, стоящей за его спиной, затем прерывистым голосом, с отчаянием, срываясь на крик, выговорил:
– Да, я расскажу тебе всю правду, одну лишь правду!
– Ты любишь Елену, ты все еще влюблен в Елену!
– Нет, я вовсе не влюблен! Вовсе не влюблен! Я был влюблен, но теперь уже не влюблен! Нет! Нет!
– Так в чем же дело?…
– В чем дело?
– Я спрашиваю, в чем же тогда причина всех твоих страданий? Я же вижу, что этот дом, дом Едены, – единственная причина мрачного твоего настроения, этот дом не дает тебе спокойно жить, значит, Елена…
– При чем тут Елена! Все дело в Авеле!
– Ты ревнуешь ее к Авелю?
– Да, я ревную к Авелю, я ненавижу его, ненавижу, ненавижу, – сквозь зубы выдавил Хоакин, потрясая кулаками.
– Ты ревнуешь к Авелю… Значит, ты любишь Елену.
– Нет, я не люблю Елену. Если бы она вышла замуж за другого, я бы ее не ревновал. Нет, я вовсе не люблю Елену, я презираю ее, презираю эту королевскую паву, эту профессиональную красавицу, эту натурщицу модного художника, эту возлюбленную Авеля…
– О, боже, Хоакин, подумай, что ты говоришь!..
– Да, да, возлюбленную… пусть признанную законом. Неужели ты воображаешь, будто благословение священника что-нибудь меняет в существе брака?