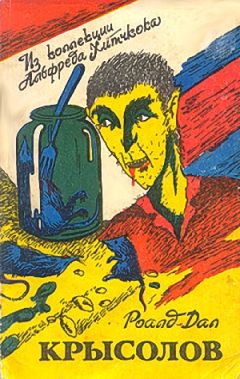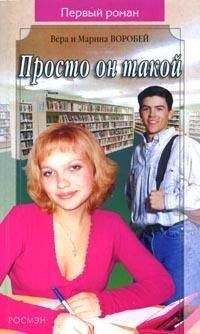— Нет, это совершенно невозможно. Во время войны я служил на наблюдательном пункте противовоздушной обороны. В своем слухе я абсолютно уверен.
— И все же, имя обвиняемого осталось невыясненным. Может быть, следует вызвать восьмого свидетеля?
— Но свидетелей всего семь, — будто извиняясь, сказал Рыбий Глаз.
— Да, ситуация осложняется. И поэтому ваш ответ, что количество свидетелей ограничено семью, нас не устраивает.
— Видите ли, тех, кого нет...
— Да что там — легче рожать, чем готовиться к родам, — рискнем. Ну что ж, попытаемся. — И закричал во все горло, да так, что чуть голос не сорвал: — Восьмой свидетель!
Воцарившееся молчание гремело громче только что раздавшегося крика.
— Хм, кто-то, кажется, ответил?
— Да, — сказал один из философов.
— Нет, — сказал другой философ.
— Не пойму, кто из вас прав. Надо спросить у самого восьмого свидетеля. Восьмой свидетель, если это вы отозвались, скажите «да», если не отозвались, скажите «нет», но теперь постарайтесь произнести это отчетливее.
— Да, — ответил кто-то еле слышно. Это был слабый, скорее всего, девичий голос. И принадлежал он, я все-таки вспомнил, девушке из закусочной.
— О-о, — раздалось со всех сторон.
— Видите, попытка удалась! — радостно воскликнул юрист. — Задаю вам первый вопрос: знаком ли вам обвиняемый?
— Да.
— Следовательно, вы как свидетель вызваны в суд правильно?
— Да.
— Вот так-то, пытаться всегда следует.
— Да.
— Это не вопрос. Свидетель обязан лишь давать показания. Как имя обвиняемого?
— ...
— Неужели не знаете?
Вместо ответа девушка тихо разрыдалась. Юрист растерянно сказал:
— Не нужно плакать, не нужно плакать.
Однако девушка из закусочной продолжала лить слезы, и математик сердито сказал:
— Если вы не перестанете плакать, мы выведем вас из зала суда! Вас вызвали в качестве свидетеля, и было бы странно, если бы вы не знали имени обвиняемого, согласны?
Девушка всхлипнула в последний раз и сказала дрожащим голосом:
— Обвиняемый... — Тут она снова горько разрыдалась. Верно, потому, что ей пришлось употребить непривычное для нее слово «обвиняемый», злорадствовал я.
— Я же предупреждал, что плакать нельзя! — снова закричал математик. — Так что же обвиняемый?
— Обвиняемый сегодня утром пришел в закусочную и ел хлеб.
— Затем?
— Обвиняемый съел хлеб.
— Своровал его! — пронзительным голосом завопил юрист.
— Нет, — пожала плечами девушка, — аккуратно расплатился и ушел.
— Глупости какие-то, — разочарованно сказал юрист.
— Но до этого...
— Если что-то было до этого, почему же вы сразу не сказали? Значит, все-таки своровал! — радостно воскликнул юрист.
— Нет. — Девушка говорила в нос.
— Так что же тогда случилось?
— Обвиняемый подошел к кассе, чтобы расписаться в кредитной книге.
— Хотел сплутовать, наверное?
— Нет, все постоянные посетители это делают.
— Хм, и что, в таком случае, произошло?
— Он начал рыться в карманах.
— Неужели пистолет?
— То, что искал, он так и не нашел и спросил у меня.
— Что спросил?
— Свое имя.
— Имя?
— Да, но я его тоже не знала.
— Я тоже не знаю. Действительно, странный случай. Что все это значит?
— Я... — Голос девушки дрожал от волнения. — Я думаю, обвиняемый где-то, наверное, потерял свое имя.
Зал содрогнулся от оглушительного хохота. Плач девушки достиг самой высокой ноты — он был похож на звон проводов, пронзающий рев бури. А смех не смолкал и становился все громче и громче.
Я воспринимал его уже не как смех, а как нечто, напоминающее шум в ушах после бессонной ночи. Голова пылала, — казалось, из пор вот-вот брызнет кровь. Я чувствовал, как под моими ногами ходит пол. Какой позор!
— Ничего смешного! — закричал первый юрист, который был уже мертв. — Видите, что вы натворили, — мне пришлось ожить! Понимаете, до какой степени важно то, что здесь происходит?
От этих слов безудержный смех вдруг растаял в мгновение ока, как кусочек сахара, брошенный в горячий чай. И слышались лишь тихие, приглушенные рыдания девушки — точно легкая замутненность от растаявшего сахара.
— Можно с полным основанием предполагать, что обвиняемый где-то потерял или утратил свое имя, — необычайно громко прозвучал в наступившей тишине голос юриста.
— Тогда поведение обвиняемого, называвшего одно имя за другим, можно считать вполне мотивированным, — со злостью сказал Рыбий Глаз.
— Я тоже так думаю, — сказал второй юрист.
— Согласен, — произнес один из философов сонным голосом. — Первый свидетель заявил, что обвиняемый был задержан на месте преступления; пятый свидетель заявил, что обвиняемый — Карма, и, следовательно, он имеет алиби; восьмой свидетель утверждает, что обвиняемый потерял имя. На первый взгляд эти показания как будто противоречивы, но фактически они не противоречат друг другу. О них можно говорить как о вполне логичных. С точки зрения диалектики противоречие между первым и пятым показаниями устранено восьмым.
Кто-то зааплодировал. Но всего лишь один человек.
— Вот именно, — сказал второй философ. — Таким образом, обвиняемый виновен, виновен и в то же время невиновен, невиновен. Согласно теории познания, проблема, с которой мы столкнулись, носит, видимо, субъективный характер.
— Нет, — хрипло сказал математик. — Математика и только математика. Прибегнув к аксиоме, вернем проблему в русло реальности!
— Поэтому, — поспешно перебил его второй юрист, — я хочу рассмотреть ее еще более реалистично, то есть — юридически. Обвиняемый утратил свое имя и теперь имени не имеет, мы же не можем применять закон к человеку, у которого нет имени. Отсюда вывод — мне представляется, что мы не имеем права судить обвиняемого.
В двух противоположных концах зала возникло необычайное волнение. В одном выражали радость, в другом — неодобрение. Крики в обоих концах все усиливались, потом начали сближаться, сошлись вплотную и наконец, слившись воедино, захватили весь зал. Я почему-то совсем успокоился.
Однако моя радость из-за последовавшего за этим заявления первого юриста исчезла без следа, окрасилась, точно лакмусовая бумага, совсем в другой цвет.
— Минутку, суд еще не закончился. Дело в том, что закон действительно запрещает нам судить обвиняемого, лишенного имени, но и обвиняемый в таком случае не может настаивать на своем законном праве. Закон и право взаимосвязаны и имеют силу, лишь когда у обвиняемого есть имя. Следовательно, нам не остается ничего иного, как сохранить статус-кво и продолжить суд. Мы обязаны вести его бесконечно, до тех пор, пока обвиняемый не отыщет своего имени.
— Я не могу этого вынести! — пронзительно закричал кто-то. Это была Ёко. — Мне и в страшном сне бы не приснилось, что возможен такой идиотский суд. Серьезно воспринимать происходящее — значит самому превратиться в идиота. Карма-сан, пошли отсюда, пусть здесь остаются эти выжившие из ума старики и сумасшедшие судьи.
Каким огромным утешением был для моего исстрадавшегося сердца этот призыв! Если бы я мог до конца верить, что мое имя Карма, я бы с готовностью, не рассуждая, последовал за Ёко. В полной растерянности, ничего не видя, я лишь протянул руки в ту сторону, откуда слышался ее голос, и задрожал от охватившей меня печали.
— Как, эта женщина еще здесь?! — изумленно воскликнул первый юрист, и тут же раздался стук — как при падении на пол чего-то тяжелого. Может быть, он снова умер. Но в зале сохранялась тишина, на стук никто не отреагировал.
— Ну так как, Карма-сан? Пошли?
Я не ответил на спокойный, невозмутимый призыв Ёко. Мое сердце, наполнившееся любовью к ней, возвещало, что я не настолько чист, чтобы игнорировать суд и покинуть его, и вместе с тем не имело мужества предать драгоценное доверие Ёко. К тому же, я неожиданно подумал, что слова, сказанные визитной карточкой: «Некто, питающий к тебе личный интерес, проникнет в суть наших отношений» — адресованы Ёко. Мучимый раскаянием и стыдом, я, чуть ли не извиняясь, сказал:
— Как же я пойду, когда у меня повязка на глазах?
— Ну так снимите ее, — с необыкновенной легкостью ответила Ёко.
Вот тут-то все и началось. Я уже собрался было сдернуть повязку, как вдруг зал наполнился страшными криками.
— Быстрей! — кричали одни.
— Больно! — кричали другие.
— Невыносимо! — кричали третьи.
Все эти крики, сопровождаемые топотом, то растягивались, то сжимались, то искривлялись. Сталкиваясь, раскалывались. Грохот опрокидываемых столов, треск ломающихся стульев.
— Откройте! Откройте! — раздавались истошные вопли и одновременно удары в дверь — в нее колотили руками и ногами. Наконец послышался грохот — дверь рухнула. Слившись в бурный поток, топот извергался наружу. Мощная, неудержимая лавина, из которой выплескивались крики, постепенно растаяла вдали. В зале какое-то время стояло лишь эхо, но вот исчезло и оно, остались только тишина и я сам, будто погруженные в вязкий сироп.