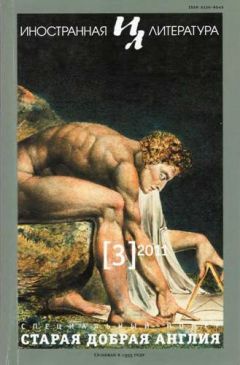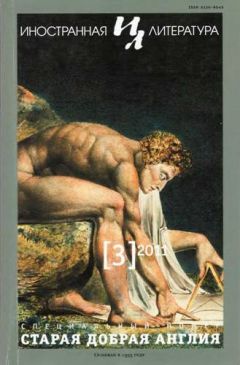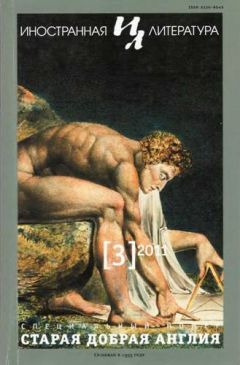злые силы. Я бывал в России и знаю. Сталиниста вижу с первого взгляда. Эти с каждым днем все больше смелеют. Повылазили из канав и занимают места у власти. Я предрекаю, а ты слушай и запоминай – через десять лет ты в этот город не то что мать или жену не привезешь, но и любую приличную женщину. Тут будет так же плохо – не хуже, потому что хуже быть не может, – как в Берлине!
– А что, в Берлине все так плохо? – стараясь не выдать заинтересованности, спросил я.
– Во всем сборнике «Тысяча и одна ночь», Кристофер, и во всех бесстыжих тантрических ритуалах на барельефах «Черной Пагоды», картинках из японских борделей, в наигнуснейших фантазиях извращенного восточного ума ты не найдешь ничего столь же тошнотворного, как то, что происходит сейчас в Берлине средь бела дня. Этот город обречен куда вернее, чем тот же Содом. Его жители даже не понимают, как низко пали. Зло там не видит самого себя. Там правит страшнейший из дьяволов – безликий. Кристофер, ты жил как у Христа за пазухой, благодари за это Небеса. Тебе такого и не снилось.
– Да уж, не снилось, – затравленно проговорил я, приняв – в тот же момент, прямо на месте – важнейшее в своей жизни решение: как можно скорее, всеми средствами отправиться в Берлин и долго-долго не уезжать оттуда.
Днем мистер Ланкастер распорядился, чтобы Вальдемар показал мне город. Мы посмотрели картины в ратуше, посетили кафедральный собор. Капитан Добсон заинтриговал меня своими рассказами о музее Блайкеллер [6] под ним, о выставленных там мумиях людей и животных. Капитан поведал, как они с братом смотрели на эти трупы: «Была там одна баба, ну, знаешь, в черной юбке. Вот я и решил подглядеть, как там у нее да что. За выставкой следил смотритель, но он как раз отвернулся, и я, такой, говорю братцу: следи, мол, за этим старым Фрицем, – а сам задрал тряпки и вижу… Знаешь что? Да ничего! По всему видать, крысы постарались».
Плоть так усохла, что кроме костей от мумий почти ничего не осталось. Она походила на черную резину. При нас в музее тоже дежурил смотритель, да только к нам он спиной поворачиваться не спешил; посему у меня не было возможности проверить правдивость рассказов капитана Добсона. Эта мысль вызвала у меня улыбку; захотелось поделиться с Вальдемаром. Одна американка, спустившаяся в подвал вместе с нами, поинтересовалась у меня, как эти трупы сохранились. Я ответил, мол, не знаю, и тогда она предложила спросить у Вальдемара. Пришлось признаться, что я этого сделать не могу. Тогда она крикнула попутчику: «Ну разве не мило! Этот юноша совсем не понимает немецкого, а его друг ни слова не знает по-английски!»
Скажите, пожалуйста, что тут милого? Компания Вальдемара меня смущала. Наверняка он был хорошим парнем. Симпатичный, я бы даже сказал, красивый; высокие готические скулы придавали ему сходство со статуей ангела в соборе. Неудивительно, что скульптор двенадцатого века взял за модель человека с такой внешностью – возможно даже, прямого предка Вальдемара. Однако в обществе ангела радости мало, особенно если он не разговаривает на твоем языке. Вальдемар таскался за мной хвостом, не проявляя инициативы. Наверняка находил меня столь же скучным, как и городские достопримечательности, утешаясь только тем, что в конторе еще скучнее.
Я провел четыре дня в обществе мистера Ланкастера, а показалось, что целую жизнь. Хотя узнать его лучше я бы не смог и за четыре месяца, а то и за четыре года.
Да, мне было тоскливо, но особенно по этому поводу я не переживал. В конце концов, какой юноша – если в нем присутствует дух – не хандрит львиную долю своего времени? Жизнь проходит не так расчудесно, как ему хочется, вот он и пылает праведным гневом.
Однако я решил примириться с мистером Ланкастером, устыдившись собственного ребяческого поведения в тот первый день. Романист я или нет, в конце концов? В колледже мы с моим другом Алленом Челмерсом любили по очереди повторять девиз: «Всю боль!» Это был сокращенный вариант строчки из сонета Мэтью Арнолда о Шекспире: «Всю боль, что дух бессмертный ощутил» [7]. Таким образом мы напоминали друг другу, что для писателя все есть рабочий материал, нечего брезговать хлебом насущным. Вот я и сказал себе, что мистер Ланкастер – часть «всей боли»; его надо принять и подвергнуть научному анализу.
Едва я остался один в его квартире, как сразу же тщательно обыскал ее на предмет улик. Получилось до смешного глупо. Ковров в комнатах не было, и мои шаги производили столько шума, что нестерпимо хотелось сбросить туфли. В одном из углов гостиной стояла пара лыж, удивительно напоминавших самого мистера Ланкастера; мне казалось, будто это фамильяры [8] и они следят за мной. Я даже рожи им корчил. Впрочем, если не они, то Борода со своей фотографии следил за мной точно. С какой готовностью он взял бы меня к себе на судно и погонял по палубе в студеный снежный шторм где-нибудь близ мыса Горн! Глянешь на него, припомнишь его бедолагу воспитанника, мистера Ланкастера, и сразу хочется призвать старое чудовище к ответу – и за многое.
Поиски обернулись полным разочарованием. Все, что я нашел интересного, – единственный запертый ящик письменного стола, и пообещал себе как-нибудь изловчиться и поискать секреты в нем. Прочие же шкафы и ящики в доме оставались не запертыми. Еще одной занятной находкой оказалась форма капитана британской армии; ее мистер Ланкастер хранил в шкафу вместе с обычной одеждой. Так он, выходит, из тех мерзких созданий, что делают культ из опыта армейской службы! Следовало догадаться. Ну, значит, будет с чего начинать изыскания.
Тем же вечером, за ужином – единственной съедобной трапезой за весь день, которую готовила нам приходящая кухарка, – я разговорил мистера Ланкастера на тему службы. Это было несложно: едва я упомянул войну, как он принялся будто нараспев перечислять:
– Лоос… Армантьер… Ипр… Сен-Квентин… Компьень… Абвиль… Эперне… Амьен… Бетюн… Сен-Омер… Аррё… – Мистер Ланкастер будто повторял церковные напевы, и мне уже начинало казаться, что конца и края этому не будет. Но тут он, еще сильней понизив голос, произнес: – Ле-Като. – Прозвучало как нечто особенно сакральное. Помолчав, он объяснил: – Именно там я написал то, что с сожалением называю одной из немногих и великих военных поэм. – Тон его голоса вновь сделался напевным: – Лишь пушек разъяренно-грозный рев [9].
– Ну конечно же, – невольно воскликнул я. – И автор…
Я осекся, осознав всю красоту своего открытия: у мистера Ланкастера безудержная мания величия!
– Я мог бы стать писателем, – сказал он. – Я обладал той силой, что есть лишь у