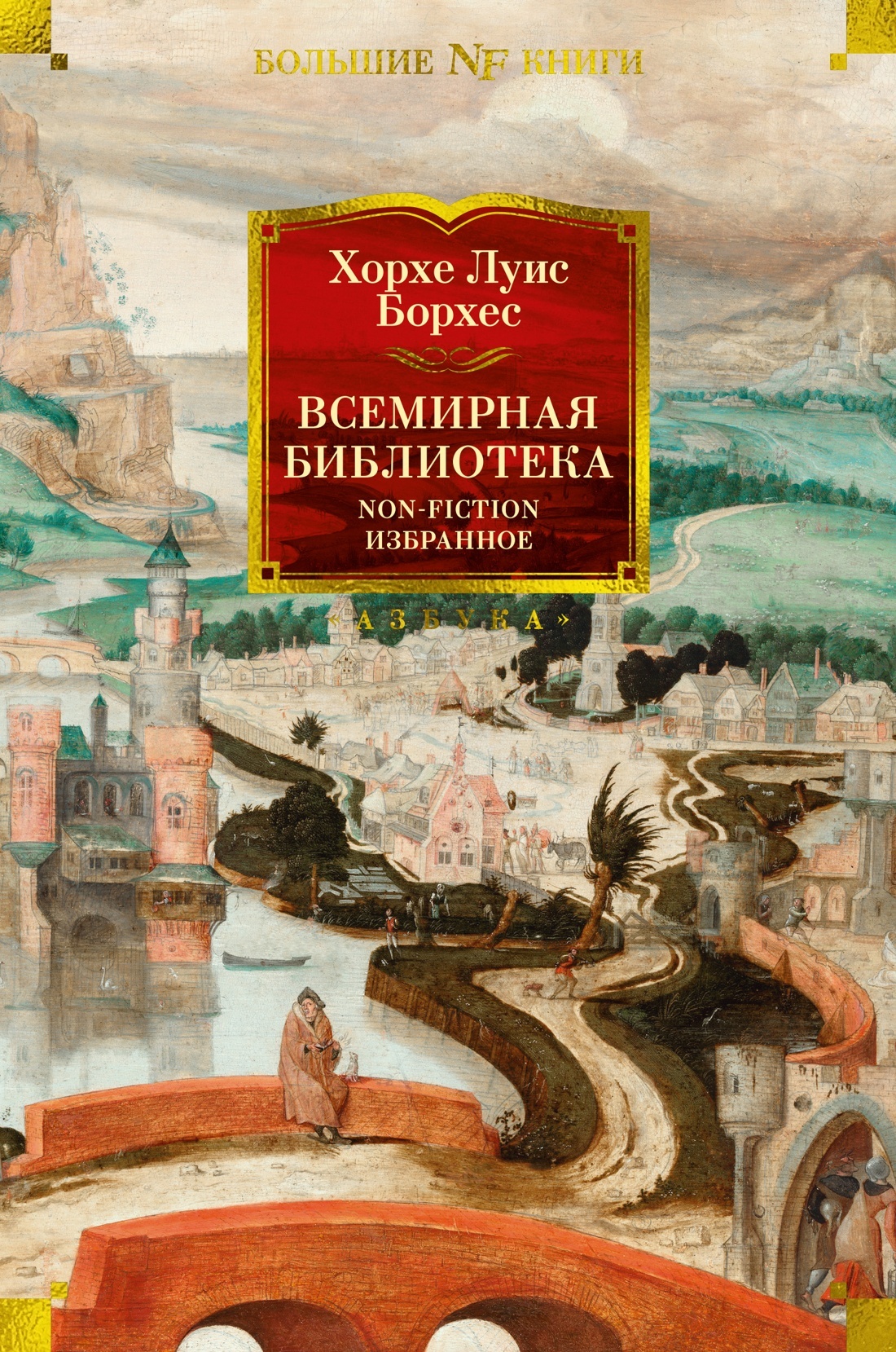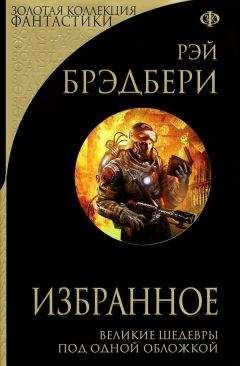Гийома Аполлинера, младшего лейтенанта артиллерии, война была прежде всего прекрасным зрелищем. Об этом говорят его стихи; и это подтверждается в его письмах. Гильермо де Торре, самый вдумчивый и проницательный из его комментаторов, замечает: «Долгими ночами солдат-поэт мог созерцать из окопов небо, расстрелянное гаубицами, и воображать новые созвездия. Так Аполлинер представлял свое участие в ослепительном зрелище в „La nuit d’avril 1915“ [414]:Le ciel est étoilé par les obus des BochesLa forêt merveilleuse ou je vis donne un bal… [415]»
Письмо от второго июля подтверждает: «Война, безусловно, прекрасная вещь, и, несмотря на все опасности, которым я подвергаюсь, несмотря на усталость, постоянную нехватку воды, словом, несмотря на все тяготы, я рад, что нахожусь здесь… Пустынная местность: ни воды, ни деревьев, ни деревушки, ни чего-либо другого, кроме металлической, запредельной войны».
Значение целого предложения, как и отдельного слова, зависит от контекста; порой в качестве контекста выступает целая жизнь. Так, фраза «Война – прекрасная вещь» допускает множество интерпретаций. В устах южноамериканского диктатора она может означать его стремление сбросить зажигательные бомбы на столицу близлежащей страны. В устах журналиста она может означать намерение заискивать перед диктатором, чтобы добиться хорошего общественного положения. В устах кабинетного литератора она может означать тоску по лихой жизни. В устах Гийома Аполлинера, находившегося прямо на поле брани во Франции… думаю, она означает безмятежное неведенье страха, принятие судьбы, внутреннюю непорочность. Таков был и норвежец, завоевавший шесть – или чуть больше – футов английской земли и окрестивший сражение «пиром викингов»; таков был и бессмертный неизвестный автор «Песни о Роланде», воспевавший блеск меча:
E Durandal, cum ies clere et blanche.Cuntre soleil si reluis et reflambes [416].
Строка Аполлинера
La forêt merveilleuse ou je vis donne un bal
не является строгим описанием артиллерийских сражений 1915 года, но это хороший портрет самого Аполлинера. Хоть он и прожил свои дни среди паладинов кубизма и футуризма, он не был «современным» человеком. Он был чем-то менее сложным и более счастливым, древним и сильным. (И был настолько несовременен, что всегда находил все современное причудливым и даже трогательным.) Он был, как сказано в платоновском диалоге, «существом легким, крылатым и священным», человеком простейших – и потому вечных – чувств; он был, когда колебались основы земли и неба, он был поэтом древнего мужества и древней чести. Пусть это подтвердят его тексты, которые волнуют нас, как близость моря: «La chanson du mal-aimé» [417], «Désir» [418], «Merveille de la guerre» [419], «Tristesse d’une étoile» [420], «La jolie rousse» [421].
1946
Об Оскаре Уайльде
При имени Уайльда вспоминается dandy [422], писавший к тому же стихи, в памяти брезжит образ аристократа, посвятившего жизнь ничтожной цели – поражать окружающих галстуками и метафорами. Брезжит представление об искусстве как тонкой, тайной игре – чем-то вроде ковра Хью Верекера или Стефана Георге – и о поэте как неутомимом monstrorum artifex [423] (Плиний, XXVIII, 2). И наконец, о томительных сумерках XIX столетия и гнетущей роскоши его теплиц и балов-маскарадов. Ни один из этих образов не лжет, но за каждым из них, утверждаю я, лишь часть истины, и все они идут против (или попросту не желают знать) известных фактов.
Возьмем, к примеру, мысль об Уайльде-символисте. Стечение обстоятельств как будто подтверждает ее: к 1881 году Уайльд встает во главе эстетизма, а десятилетием позже – декадентства; Ребекка Уэст («Генри Джеймс», III) коварно обвиняет его в том, что он привнес в последнюю из этих двух сект «привычки среднего класса»; словарь стихотворения «The Sphinx» [424] блещет рассчитанным великолепием; Уайльд дружил со Швобом и Малларме. Но все это меркнет перед главным: будь то в стихах или в прозе, синтаксис Уайльда всегда проще простого. Из множества британских авторов он самый понятный для иностранцев. Читатели, неспособные распутать абзац Киплинга или строфу Уильяма Морриса, проглатывают «Lady Windermere’s Fan» [425] за один вечер. Стих Уайльда легок или производит впечатление легкости; у него не найдешь экспериментальной строки вроде этого замысловатого и виртуозного шестистопника Лайонела Джонсона: «Alone with Christ, desolate else, left by mankind» [426].
Может быть, примитивность уайльдовской «техники» – это еще один аргумент в пользу его истинных достоинств. Будь творчество Уайльда всего лишь отражением его славы, оно свелось бы к фокусам на манер «Les palais nomades» [427] или «Сумерек сада». Подобных фокусов у Уайльда предостаточно, вспомним хотя бы одиннадцатую главу «Дориана Грея», «The Harlot’s House» [428] или «Symphony in Yellow» [429], но замечательно, что он ими вовсе не исчерпывается. Уайльд вполне обошелся бы без этих «purple patches» (пурпурных заплат) – выражения, которое Рикеттс и Хескетт Пирсон приписывают нашему герою, забыв, что им открывается уже «Послание к Пизонам», настолько критики привыкли связывать имя Уайльда с декоративностью.
Читая и перечитывая Уайльда, я заметил факт, кажется упущенный из виду самыми ярыми его приверженцами. Простой и очевидный факт состоит в том, что соображения Уайльда чаще всего верны. «The Soul of Man under Socialism» [430] блещет не только красноречием, но и точностью. В беглых заметках, рассыпанных по «Пэлл-Мэлл гэзетт» и «Спикеру», затерялись сотни проницательнейших наблюдений, которые оставили бы Лесли Стивена или Сентсбери далеко позади. Уайльда не раз обвиняли в искусстве комбинаторики на манер Раймунда Луллия; может быть, это вполне приложимо к некоторым его шуткам («одно из тех британских лиц, которые, раз увидев, забываешь навсегда»), но не к фразам, что музыка возвращает нам неизвестное и, вероятней всего, истинное прошлое («The Critic as Artist») [431], или что все мы убиваем тех, кого любим («The Ballad of Reading Gaol») [432], что раскаяние преображает былое («De Profundis») [433], или – афоризм, достойный Леона Блуа или Сведенборга, – что в любом человеке в каждый миг заключено все его прошедшее и грядущее [434] (там же). Привожу эти строки не для того, чтобы удивить читателя: хочу лишь указать на склад ума, разительно отличающийся от обычно приписываемого Уайльду. Он, хотелось бы верить, не умещается в рамки этакого ирландского Мореаса и остался человеком XVIII столетия, снисходившим порой до игры в символизм. Как Гиббон, Джонсон или Вольтер, он был остроумцем, наделенным, кроме того, чрезвычайной здравостью суждений. Был, если уж произносить роковые слова, «по сути своей человеком классического склада» [435]. Он отдал веку все, чего требовал век – «comédies larmoyantes» [436] для большинства и словесных арабесок для избранных, – и создавал эти разные вещи с одинаково беззаботной легкостью. Ему повредило, пожалуй, стремление к совершенству: сделанное им