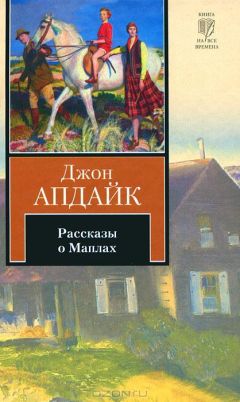— Здоровяк в комбинезоне…
— Негр? — пожелал уточнений муж.
— Конечно. Здоровяк с очень правильной речью. Он говорил, что на любой демонстрации, особенно на Юге, надо позволять неграм идти по краю дороги, потому что для их самоуважения важно иметь возможность нас охранять. Он рассказал об одной леди, модном дизайнере одежды из Нью-Йорка, которая приехала в Алабаму, в Сельму, и там заявила, что позаботится о себе сама. И давай заигрывать с патрульными! В конце концов ее отправили восвояси.
— Я думал, патрульных надо любить.
— Абстрактно. Не самостоятельно. В движении ничего нельзя делать в индивидуальном порядке. Своим заигрыванием она позволила полицейскому ее презирать.
— И помешала его переводу в более приличное место.
— Не смейся, тут высокая психология. Этот человек советовал тем из нас, кто хочет устраивать демонстрации, разобраться с нашим стремлением доставлять себе удовольствие, даже если оно здесь на первый взгляд ни при чем, и перешагнуть через него. На демонстрации ты лишаешься индивидуальности. Разве не изящно? Красота!
Такой ее Ричард еще не знал. Ему казалось, что улучшается ее походка, фигура, светится кожа, даже волосы становятся гуще, больше блестят. Сам он за двенадцать лет брака приучил себя к апатии и бесконечному повторению пройденного, и этот всплеск ее красоты вызывал у него недоверие.
Она вернулась из Алабамы в три часа ночи. Он проснулся и услышал, как она закрывает дверь. Перед этим ему снился параллелограмм в небе, бывший одновременно метеоритом; уложенные им в постель с нарочитой отцовской нежностью четверо детей, казалось, делили темный дом на четыре части. Он ловил себя на том, что говорит с ними о маме, как о парящем вдали бесплотном духе, поселившемся в газетах и телевизоре. Бин, младшая дочь, из-за этого даже плакала. А теперь этот дух закрывал дверь, поднимался к нему в спальню, падал на постель.
Он включил свет и уставился на ее загоревшее лицо, на стертые ноги. Ее балетки были заляпаны оранжевой грязью. Три дня она питалась одной курагой, запивая ее колой; однажды ей пришлось шестнадцать часов обходиться без туалета. Аэропорт в Монтгомери оказался сумасшедшим домом: монахини, социальные работники и студенты-богословы дрались за места на рейсах, улетавших на Север. Уже в воздухе они услышали про миссис Лиуццо[9].
— На ее месте могла бы оказаться ты, — осуждающе произнес он.
— Я всегда была в группе, — сказала она и виновато спросила: — Как дети?
— Хорошо. Только Бин плакала. Она решила, что ты попала внутрь телевизора.
— Ты меня видел?
— Твои родители звонили из своего далёка с сообщением, что вроде бы видели. Я — нет. Я видел только Кинга и его соратника Абернати. Мне запомнился сленг их сторонников: «Это клево, чувак!»
— Какой ты злой! Все было очень вдохновенно, только мы смертельно устали. Черные девочки-подростки все время падали в обморок; как объясняет психиатр, у них психические срывы.
— Какой еще психиатр?
— Их было трое, все учатся на психиатров в Филадельфии. Они взяли меня на буксир.
— Могу себе представить! А теперь — ложись. Как я устал быть матерью!
Она посетила все четыре угла второго этажа, проверила, как спят ее дети, и разделась в темноте. Сняв белье, которое проносила трое суток, она вся засветилась; сонному мужчине в постели это показалось явлением свыше. Он почувствовал то же, что чувствовали, наверное, люди в старину при встрече с ангелом: обожание и при этом обиду перед лицом столь вопиющего доказательства, что есть жизнь не от мира сего.
Она выступала по радио, обращалась к местным активистам. В гаражах и супермаркетах на него показывали пальцем как на ее мужа. Она помогала организовывать митинги, на которых опрятные молодые негры высмеивали и оскорбляли пригородную публику, а та им аплодировала. Ричард удивлялся умению Джоан вести себя на людях. Ее застенчивость никуда не делась, она превратилась в оружие, заточенное доктриной ненасилия. Когда она звонила неуловимым местным агентам по торговле недвижимостью как участница кампании за справедливую жилищную политику, ее тон неожиданно становился твердым и упрямым, не теряя своей мелодичности, — такого ее голоса муж раньше не слышал. Он стал ревнивым и раздражительным, на вечеринках ловил себя на словах в защиту конституционных прав штатов, доказывал, как несчастна обретающая независимость Африка, повествовал о Реконструкции с точки зрения Юга. Тем не менее ей почти не составило труда уговорить его принять вместе с ней участие в демонстрации в Бостоне.
Он пообещал, что пойдет, хотя никак не мог уловить цель демонстрации. Все массовые движения, все идеи, якобы владеющие массами, казались ему нереальными. Зато его жена, дочь либерального профессора теологии, жила абстракциями; кровь возвращалась в ее сердце, обогатившись от прохождения по капиллярам добрых дел. Его поразило и даже немного обидело то, с каким пылом она благодарила его за обещание; ее тело казалось на ощупь вычурным, кожа по ночам приобретала особенную гладкость.
Наступил апрельский день, на который была назначена демонстрация. Утром Ричард проснулся с температурой. В его организм проникло что-то чуждое, и теперь тело сопротивлялось вторжению. Джоан была готова идти одна, но он отверг это как нечто коренным образом противоречащее его достоинству, их браку. Утро выдалось облачным, но прогноз обещал солнечный день, и он надел летний костюм, от которого его горячая кожа приобрела какую-то нереальную невесомость. По дороге они купили в аптеке таблетки, коим надлежало детонировать у него внутри на протяжении двенадцати часов. Они оставили машину у дома ее тетки на Луисберг-стрит и поехали на такси к точке кипения страстей — спортивной площадке в Роксбери. От безучастной спины водителя-ирландца исходило осуждение. На полпути их такси остановил полицейский, Маплам пришлось вылезти и идти пешком по широкому бульвару среди парикмахерских, сапожных мастерских, пиццерий и помещений всевозможных ассоциаций. На крылечках и на лестницах бездельничали и перемигивались негры; их отрывистые разговоры и все поведение выглядели так, словно они заняли позиции согласно плану некоего обширного, но внезапно рухнувшего заговора.
— Красивая архитектура, — проговорила Джоан, указывая на боковую улицу, печальную и бесполезную неогеоргианскую дугу.
Джоан делала вид, будто знает, где находится, но Ричард сомневался, что они идут в правильную сторону. Уверенности ему придали быстро удалявшиеся черные группки белых священников, разбросанные, как те аномальные предметы, которыми любил усеивать свои перспективы Сальвадор Дали. Потом замигали из набухавшей толпы сигналы полицейских машин. Рядом с Маплами материализовались цветные девушки, превращенные пышными прическами в настоящих великанш. На одной были вишневые штаны и античные золотые сандалии, при этом она прижимала к уху транзисторный приемник, настроенный на молодежную радиостанцию. Под ее музыку все они достигли огороженной спортивной площадки.
На вытоптанной траве переминалась многотысячная рыхлая толпа с транспарантами всевозможных церквей, братств, школ, городов. Торговцы разноцветным фруктовым мороженым придавали действу неожиданный карнавальный привкус. Ричард сразу освоился, купил пакетик арахиса и огляделся, как в детстве, в поисках друзей.
Но друзей высмотрела Джоан.
— Господи, — прошептала она, — этой мой старый психоаналитик!
К кучке унитариев пристроился одутловатый персонаж с неспокойным прищуром пекаря, видевшего внутренности слишком многих печей. Джоан развернулась, чтобы не столкнуться с ним.
— Не подавляй себя, — посоветовал ей Ричард. — Пошли, будь дружелюбной и нормальной.
— Я слишком смущена.
— С тех пор прошло много лет. Ты вылечилась.
— Ты не понимаешь! Вылечиться нельзя, можно просто перестать к ним ходить.
— Тогда пройдем здесь. Кажется, я вижу своего гарвардского сокурсника, мы вместе посещали курс «От Платона к Данте».
Но Джоан, вопреки ее собственным словам, несло на психоаналитика, тот уже успел ее опознать. Нахмурившись, он косолапо засеменил им навстречу. Ричард не был с ним знаком. Пожимая ему руку, он чувствовал себя прелой кучей анекдотов, расписанных во всех подробностях вожделения и насилия.
— Кажется, мне нужен врач! — выпалил он.
Тот извлек на свет, как кинжал из рукава, мимолетную улыбку.
— То есть как? — Каждое его слово было на вес золота.
— У меня температура.
— Вот как! — Психоаналитик сочувственно повернулся к Джоан, на его физиономии читалось неприкрытое соболезнование: «Он по-прежнему вас наказывает».
— Так и есть, — подтвердила Джоан, верная супруга. — Я видела термометр.
— Хотите арахис? — предложил Ричард. В крохотном ядрышке заключался такой недвусмысленный символ, что Ричард удивился, когда психоаналитик взял один орех, громко его разгрыз и стал усиленно пережевывать.