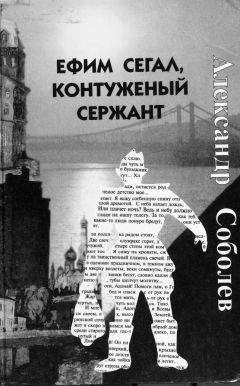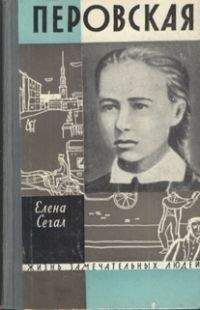- Давайте, Даниил Борисович, мои расписки и восемь кусков наличными, - сказал Ефим развязным тоном на жаргоне Красницкого. Решил пошутить? Нет, не до шуток ему было: предательский уголек разгорался внутри, подступал к горлу.
Красницкий повеселел, жесткие губы его изобразили нечто вроде улыбки.
- Давно бы так! - Он достал из стола ключи от несгораемого шкафа. - Теперь я вижу перед собой не мальчика, но мужа! Молоток! - Положил рядышком с собой Ефимовы расписки, отсчитал нужную сумму, то и другое накрыл чугунной пятерней. - Ну, брат, пиши новую, на тридцать тыщ!
А в груди Ефима все сильнее и сильнее разгорался знакомый уголек, зловеще сдавливал горло... Еще мгновение... И чтобы притушить теснящее грудь жжение, он продолжал ломать комедию.
- Сей момент, - сказал подражая языку издателя, и тут же на чистом листе бумаги крупными печатными буквами написал:
ГРАЖДАНЕ ГРАБИТЕЛИ, А X... НЕ ХОТИТЕ ЛИ?
Красницкий нетерпеливо поглядывал на скользящее по бумаге золотое перо.
- Давай, - торопил он, шепча от волнения, - давай, Сегал!
Ефим отдал ему бумагу. Пристроив на носу очки, Даниил Борисович пробежал глазами строчку. Крупное лицо его мгновенно побагровело, потом побледнело, снова залилось краской. Не глядя на Ефима, он, внешне спокойно, положил Ефимовы расписки и деньги в сейф, неторопливо, видно, что-то прикидывая в уме, запер его, ключи опустил в карман брюк. Порвал в мелкие клочки лист бумаги с Ефимовой оплеухой, сел, сцепил пальцы рук и в такой напряженной позе просидел минуты две-три.
Ефим злорадно смотрел на друга любезного, ласкового: выстрел попал в десятку, прекрасно! Он примерно угадывал ход мыслей уязвленного проходимца, но не мог предугадать его ближайшие действия: например, натравит он на него пса или нет? В кабинете царила глухая тишина. Когда ударили стоящие в углу напольные часы, оба вздрогнули. Встрепенулся пес, лежащий у ног Красницкого. Он нехорошо скосил на Ефима злые маслянистые глаза, зевнул, обнажив острые клыки. Глядя мимо Ефима, Красницкий поднялся с кресла, выпрямился в свой саженный рост, глухо приказал:
- Вон из моего дома! Думал ты простак, а ты оказывается... Подожди, ты у меня за это «х... не хотите ли» наплачешься!
Он зло хлопнул дверью за вышедшим Ефимом.
Плетясь с ноги на ногу, Ефим вышел с Остоженки, где жил Красницкий, на немноголюдную в эти часы Кропоткинскую площадь, свернул на бульвар, сел на первую попавшуюся скамью, поднял воротник демисезонного пальто, задумался. Скверно. Оправдались, да еще с лихвой, самые худшие его предчувствия. Лишний раз убедился Ефим: первое впечатление, как правило, бывает безошибочным. Но какое это теперь имеет значение?.. Прощай, «Котик усатый», прощай, «Дедушкина оранжерея»! Прощайте маячившие перед самым носом увесистые пачки купюр!..
Ну и черт с ними, попытался он себя успокоить. Вот если бы он столкнулся с мошенником, став взяткодателем, вот тогда бы действительно произошла катастрофа: настоящий Ефим Сегал — честный, смелый, принципиальный — перестал бы существовать. Вместо него появился бы жалкий, безликий прихлебатель Красницкого, его послушное орудие, ничтожная тварь... Мороз пробежал по коже Ефима. Ему стало холодно и страшно. Он еще глубже уткнул нос в воротник пальто, задрожал всем телом. Хорошо, что катастрофа его миновала - он не рухнул на дно, не раздавлен, не обезличен. Мысль эта сразу же его согрела. Опустив воротник, выпрямившись, он снова ощутил весну света...
Состояние, похожее на возрождение, длилось всего несколько минут. Разбитое корыто почти осуществленной мечты лежало у ног реальным несчастьем. Да, он не пал, он человек! Прекрасно! Но... ни работы, ни средств к существованию у него нет. Мало того, есть долг в две тысячи рублей Красницкому, расписка в сейфе у последнего. Что делать, как рассказать об этом Наденьке? Чем смягчить удар? Постой, постой... Он вспомнил вдруг обещание редакции «Вечерки» взять его в штат, просили тогда зайти через недельку... Сколько прошло - две, три недели, месяц? Наверно, опоздал... А если нет? Он буквально сорвался с места, прыгнул на ходу в трамвай... Не дожидаясь лифта, через две ступеньки перемахнул несколько лестничных маршей редакционного здания. Запыхавшись, влетел в кабинет ответственного секретаря.
- Я - Ефим Сегал, - выпалил с ходу. - Помните? Не так давно звонил вам насчет работы репортером.
Тот наморщил лоб.
- Кажется, я действительно хотел вам помочь... Но вы опоздали. Дней десять назад оформили товарища. Ничего, тянет. Так что...
Медленно спускался он со ступеньки на ступеньку... Подошел к трамвайной остановке, не зная куда и зачем ему сейчас ехать, что бы еще такое придумать. Надо же, черт возьми, хоть чем-то хорошим разбавить для Нади сквернейшее известие.
«Вот балда! - он стукнул себя по лбу согнутым пальцем. - Ведь можно обратиться в народный суд. Непременно восстановят на прежнюю работу, непременно...» Вчера этот шаг претил ему. Теперь — нет выбора.
Народный судья, молодая суховатая женщина, выслушала Ефима рассеянно, без всякого интереса.
- Когда вас уволили?
- Около четырех месяцев назад.
- Эка хватились! Поздно, товарищ Сегал, поздно! Заявление от вас принять не имею права. Закон не позволяет. До свидания.
Не помнил Ефим, как добрался домой, как разделся, взобрался на постель. Сколько времени метался на постели - тоже не помнил. В воспаленной памяти его наплывали, толпились, сшибали друг друга то яркие, то затемненные, то мутные кадры прошедшего безумного дня. Вот Даниил Красницкий в форме палача гестапо натравливает на него свирепого Рекса: «Ату его, Рекс, ату, дурака! Деньги брать не хочет, так я ему и поверил! Жид деньги брать не хочет, видите ли! Ха-ха-ха! Честного из себя корчит! Врешь, жиденок! Ату его, Рекс!» Оскалив жуткую пасть, истекая мерзкой слюной, кобель рвется к горлу Ефима, вот-вот вопьется, перегрызет... вопьется, перегрызет... Ефим простирает рукой вперед, изловчась, хватает пса за ошейник, душит его... Красницкий рукояткой парабеллума бьет Ефима по голове, и он теряет сознание... падает... А над ним, взявшись за руки, Смирновский, Щукина, Дубова, Козырь, Великанова водят хоровод, пляшут, приговаривая: «Так тебе и надо! Так тебе и надо! Праведник спесивый, тощий и сопливый!..» Ефим напрягается, хочет приподняться, разогнать подлую свору - напрасно! Он и пальцем пошевелить не в силах.
«Поздно! Поздно!» - кричит ответственный секретарь «Вечерки».
«Опоздал, опоздал», - злорадствует судья в облике Эльзы Кох.
«Ладно, Сегал, ладно, - щерит редкие зубы, толкая Ефима в плечо, Эльза Кох, - вставай. Не тужи! Прочти мне своего «Котенка усатого», может смилуюсь, восстановлю тебя на работе...»
Невероятным усилием воли Ефима приподнимается, начинает декламировать:
Котик наш усатый,
Серый, полосатый...
Серый, полосатый Котик наш усатый...
Но больше ничего он не помнит. Эльза Кох вреднюще улыбается, он падает куда-то...
...— Фима! Фима! Боже мой! Очнись, очнись же! Что с тобой? Очнись, ради бога!... Какой котик? Что ты говоришь?! Фима, очнись!
Словно издалека-издалека до сознания Ефима доходит тревожный голос... кажется, Нади. Он открывает глаза. Будто из густого тумана медленно выплывает русая головка Наденьки, потом испуганные, плачущие ее глаза... потом чья-то знакомая и незнакомая женская фигура. Ефим видит, но не понимает, что все это значит.
- Слава богу, в себя пришел, - говорит знакомый и незнакомый женский голос.
- Где я? - еле слышно шепчет Ефим.
- Фима, Фимочка! Это я, Надя! Почему ты очутился на полу? Что случилось?.. Боже, он весь горит... Лена, помоги положить его на кровать.
Ефим чувствует, как его поднимают, кладут голову на подушку и... растворяются, исчезают куда-то женские образы...
Когда он вновь очнулся, увидел перед собой женщину в белом халате, Наденьку, соседку Лену.
- Сорок и одна, - говорит женщина в белом халате. - Немедленно в аптеку за норсульфазолом! А я тем временем сделаю ему укол.
- Что с ним, доктор? — спрашивает Надя. — Это не опасно?
Шершавым языком Ефим облизывает сухие губы, голова на части раскалывается от боли.
- Пи-ить, - говорит он чуть слышно, - пи-ить.
Только к вечеру следующего дня температура у него понизилась. Он чувствовал себя обессиленным, измученным, подавленным, ни есть, ни пить не хотелось, но по настоянию сразу побледневшей, осунувшейся Нади с превеликим трудом поглотил несколько ложек наваристого супа, немного яблочного джема с крохотным кусочком булки.
- Врач говорит, Фима, ничего страшного: нервное перевозбуждение плюс небольшая простуда, - успокаивала Надя, - еще денек-другой и почувствуешь себя совсем хорошо. Веришь мне?
Ну, как он мог не верить своей родной Наденьке, единственной, неповторимой «курочке без мамы»!.. Умница! Ни о чем не расспрашивает: где был в тот день, когда заболел, что его так потрясло? Ведь наверняка о чем-то догадывается, а не затевает лишних разговоров. Само присутствие возле него Наденьки, ее нежный облик - лучший для него волшебный баньзам.