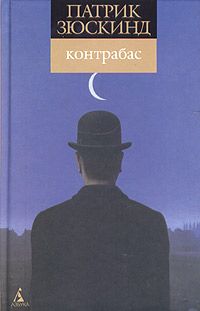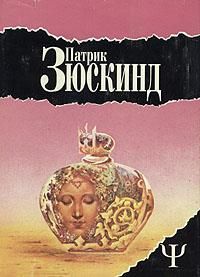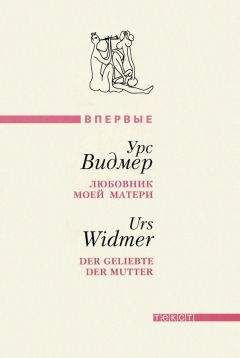рецензию наизусть: все в один голос говорили о том, что у нее талант и что ее работы с первого взгляда очень импонируют публике. Но прислушавшись к приглушенным голосам и репликам тех, кто стоял к ней спиной, молодая женщина смогла уловить: «У нее нет глубины. В этом все дело. Пишет она недурно, но, к сожалению, ей не хватает глубины».
Всю следующую неделю молодая женщина ничего не рисовала. Она молча сидела дома, хандрила, а в голове у нее вертелась только одна мысль, которая, как спрут, втянула и поглотила все прочие мысли: «Почему у меня нет глубины?»
Через неделю молодая женщина попыталась снова рисовать, но дальше неудачных эскизов дело не пошло. Ей не всегда удавалось провести хотя бы простую линию. Под конец она дрожала так сильно, что не могла даже окунуть перо в тушь. Она заплакала и воскликнула: «Да, так и есть, нет у меня никакой глубины!»
Еще через неделю она взялась за книги по истории искусства, принялась изучать чужие рисунки, бродить по галереям и музеям. Она перечитала труды по теории живописи. Она отправилась в букинистический магазин и потребовала у продавца самую глубокую книгу, какая имелась на складе. Она получила сочинение знаменитого Витгенштейна, но не знала, что с ним делать.
На выставке «500 лет европейского рисунка» в городском музее она записалась в художественную студию, которой руководил ее учитель рисования. Увидев как-то один из рисунков Леонардо да Винчи, она вдруг спросила вслух: «Простите… вы не могли бы мне сказать, есть ли в этом глубина?» Учитель рисования только усмехнулся в ответ: «Вам угодно смеяться надо мной? Советую вам вставать пораньше, сударыня!» – и весь класс расхохотался. А молодая женщина, вернувшись домой, горько расплакалась.
Художница вела себя все более странно. Она почти не покидала своего ателье, но работать уже не могла. Она глотала таблетки, чтобы не заснуть, но не знала, для чего ей нужно бодрствовать. Когда ее одолевала усталость, она засыпала на стуле, потому что боялась ложиться в постель, – ее страшил глубокий сон. Она начала пить и всю ночь сидела при свете. Она больше не рисовала. Когда ей позвонил из Берлина один торговец картинами и попросил прислать ему несколько листов, она закричала в трубку: «Оставьте меня в покое! Нет у меня никакой глубины!» Иногда она бездумно мяла пластилин, но ничего определенного не лепила. Просто погружала в пластилин подушечки пальцев или скатывала его в комочки. Она перестала следить за собой, не обращала внимания на одежду и не прибиралась в квартире.
Ее друзья встревожились. Они говорили: «Надо бы о ней позаботиться, она в глубокой депрессии. Может быть, у нее неприятности личного характера, или творческий кризис, или плохо с деньгами. Если это личное, тут уж ничего не поделаешь, из творческого кризиса она выберется, а деньги можно бы собрать, но она, наверное, обидится». Поэтому они ограничились тем, что приглашали ее на обеды или вечеринки. Она всегда отказывалась, говорила, что ей нужно работать. Но она никогда не работала, только сидела у себя в комнате, уставившись невидящим взглядом в пространство, и мяла пластилин.
Однажды, когда ей было совсем скверно, она все-таки приняла одно приглашение. Молодой человек, которому она нравилась, хотел потом отвезти ее домой, надеясь с ней переспать. Она сказала, что ничего не имеет против, потому что ей он тоже нравится; но предупредила его, что у нее нет никакой глубины. После чего молодой человек стал ее избегать.
Молодая женщина, подававшая блестящие надежды, все больше опускалась. Она больше не выходила из дому, никого не принимала, из-за неподвижного образа жизни она растолстела, алкоголь и таблетки быстро ее состарили. Ее квартира заплесневела, от нее самой дурно пахло.
Она получила в наследство 30 000 марок и прожила их в три года. Один раз она съездила в Неаполь, но никто так и не узнал зачем и для чего. Обращаясь к ней, люди слышали в ответ лишь невразумительное бормотание.
Когда деньги кончились, молодая женщина изрезала и изорвала все свои рисунки, поехала к телебашне и бросилась вниз с высоты 139 метров. Но так как погода в тот день была ветреной, она не разбилась на асфальтированной площади перед башней – ветер отнес ее на опушку леса и бросил на сосны. И все равно она тотчас же умерла.
Бульварная пресса упоенно раздула этот случай. Самоубийство как таковое, интересная траектория падения, тот факт, что речь шла о многообещающей художнице, которая к тому же некогда была красавицей, – все это имело большую информационную ценность. Состояние ее квартиры оказалось столь катастрофическим, что получились весьма живописные фотокадры: тысячи пустых бутылок, повсюду признаки разрушения, изодранные в клочья рисунки, на стенах комки пластилина, даже экскременты в углах комнаты. Из этого рискнули сделать дополнительный разворот и репортаж на всю третью полосу.
Упомянутый выше критик написал заметку, в коей выражал свои глубокие сожаления в связи с безвременной ужасной кончиной молодой женщины. «Все снова и снова, – писал он, – мы, оставшиеся в живых, с содроганием наблюдаем, как одаренная молодежь не находит в себе сил, чтобы утвердиться на общественной сцене. Государственная поддержка и частная инициатива здесь бессильны, ибо речь идет прежде всего о человеческом участии и о понимании со стороны творческой среды. И все же в конечном счете причины трагической развязки коренятся в самой личности. Ведь уже в самых первых, казалось бы еще наивных, работах покойной ощущалась пугающая разорванность сознания. В ее своевольной, миссионерски новаторской смешанной технике очевидна некая закрученность, спиралевидность, чувствуется разъедающая и эмоционально насыщенная, но, увы, бесплодная обращенность этого создания на самое себя. В ней жила роковая, я бы сказал, беспощадная тяга к глубине».
Ранним вечером в августе, когда большинство посетителей уже покинули парк, в павильоне северо-западной части Люксембургского сада остались двое мужчин, сидевших друг против друга за шахматной доской. Дюжина зрителей наблюдала за партией с таким напряженным вниманием, что, несмотря на приближение часа аперитива, никто из них не собирался покидать место действия до окончания схватки.
Интерес завсегдатаев павильона вызвал игрок, предложивший партию, – молодой брюнет с бледным лицом и фанатичными темными глазами. Он не говорил ни слова, лишь время от времени вертел в пальцах незажженную сигарету, и вообще являлся воплощением небрежно-снисходительной элегантности. Никто не знал его, никто никогда не видел, как он играет. И все же с первого мгновения, с того момента, когда он, бледный, вдохновенный, безмолвный, сел за доску и начал расставлять фигуры, все ощутили исходящую