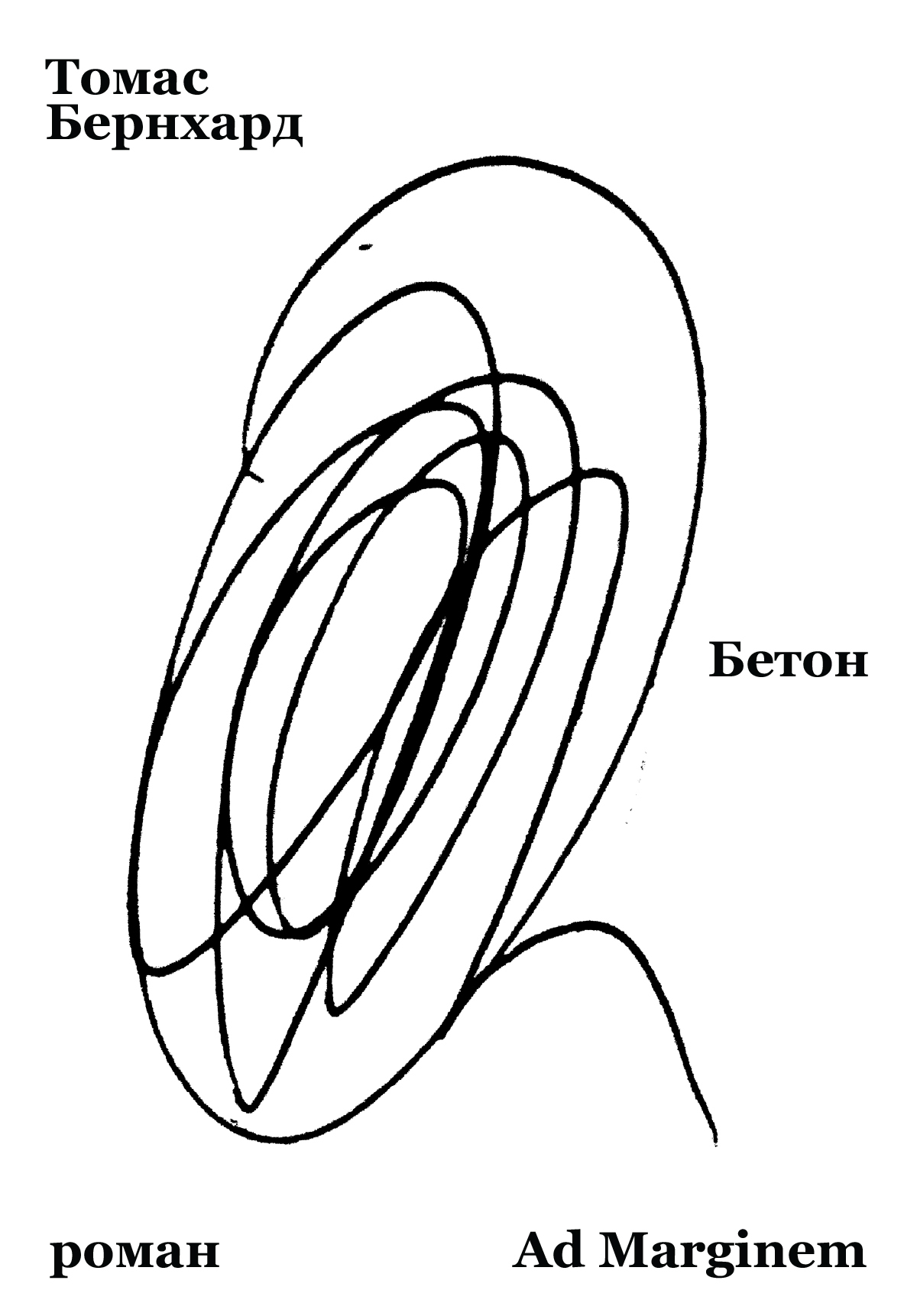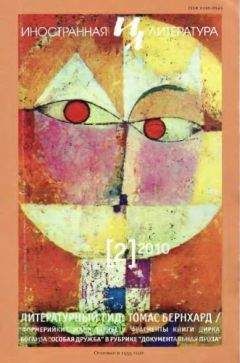Роман «Бетон» был написан Томасом Бернхардом (1931-1989) в 1982 году на одном дыхании: как и рассказчик, автор начинает работу над рукописью зимой в Австрии и завершает весной в Пальма-де-Майорке. Рассыпав по тексту прозрачные автобиографические намеки, выставив напоказ одни страхи (животный страх задохнуться, замерзнуть, страх чистого листа) и затушевав другие (бедность, близость), он превратил исповедь больного саркоидозом героя в поистине барочный фарс, в котором смерть и меланхолия сближаются в последней пляске. Можно читать этот безостановочный нарциссический спич как признания на кушетке психоаналитика, как типично австрийскую логико-философскую монодраму, семейный роман невротиков или буржуазную историю гибели одного семейства, главной темой всё равно остается музыка. Книга о невозможности написать книгу о композиторе Мендельсоне – музыкальное приношение Бернхарда модернизму, ставящее его в один ряд с мастерами «невыразимого» Беккетом, Пессоа, Целаном, Бахман.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Моцарта! – сказал я себе. Снова и снова меня спасает музыка. Снова и снова, разгадывая математическую загадку Хаффнер-симфонии, сидя с закрытыми глазами, что всегда доставляло мне величайшее удовольствие, я действительно успокаивался. Именно Моцарт чрезвычайно важен для моей работы о Мендельсоне, Моцартом всё объясняется, я думаю, я должен исходить из Моцарта. Отдал ли я Кинесбергер причитающиеся ей деньги? Да. Упаковал ли я все свои лекарства? Да. Упаковал ли я все необходимые книги и статьи? Да. Осмотрел ли я охотничий домик? Дa. Сказал ли я сестре, что она не должна оплачивать оклейку обоями ее комнаты в Пайскаме, чего я поначалу требовал от нее? Да. Сказал ли я садовнику, как обрезать деревья в январе? Да. Сказал ли я терапевту, что теперь у меня болит не только левая, но и правая сторона грудной клетки, даже ночью? Да. Сказал ли я Кинесбергер не открывать жалюзи с восточной стороны? Да. Сказал ли я ей, что, хотя она должна во время моего отсутствия протапливать дом, не следует его перетапливать? Да. Вытащил ли я ключ из двери охотничьего домика? Да. Оплатил ли я счет за поклейку обоев? Я спрашивал себя и сам себе отвечал. Время как будто остановилось. Я встал и спустился в холл, осмотрел чемоданы, проверив, достаточно ли надежно они закрыты, и осмотрел замки. Зачем я учинил всё это над собой? – спросил я себя. Я сел в нижней, восточной, комнате и посмотрел на портрет своего дяди, который, как видно по портрету, был послом в Москве. Написанный Лампи, портрет представляет высокую художественную ценность, как я изначально и предполагал. Мне нравится эта картина, на ней дядя похож на меня. Но он прожил дольше, чем я, подумал я. Я уже обулся в дорожные ботинки, одежды на мне оказалось слишком много, всё было слишком тесно и слишком тяжело. А потом еще и шуба, подумал я. Не лучше ли было углубиться в Вольтера, как я намеревался, в моего любимого Дидро‚ вместо того чтобы вдруг сорваться и оставить всё, что мне, в сущности, так дорого. Я ведь не такой уж черствый человек, каким меня видят некоторые, просто хотят меня таким видеть, потому что именно таким я часто кажусь, потому что я очень часто не осмеливаюсь показать себя таким, какой я есть на самом деле. Но какой я на самом деле? Саморефлексия вновь настигла меня. Не знаю почему, но я вдруг вспомнил, что двадцать пять лет назад, то есть когда мне было чуть больше двадцати, я был членом социалистической партии. Вот был смех! Мое членство в партии продлилось недолго. Как и всё остальное, я прервал его решительно, буквально через несколько месяцев. Подумать только, а однажды я решил стать монахом! Когда-то у меня действительно была мысль стать католическим священником! И однажды я пожертвовал восемьсот тысяч шиллингов голодающим в Африке! И это правда! В то время я считал это логичным, нормальным. Сейчас я уже не имею к этому ни малейшего отношения. Подумать только, что когда-то я верил в то, что смогу сочетаться браком! Иметь детей! Может быть, стать военным, я даже когда-то думал, что стану генералом, генерал-фельдмаршалом, как один из моих предков! Абсурд. И ради этого я пожертвовал бы всем, что имею, сказал я себе. Но все эти помыслы если и не обратились в ничто, то виделись смехотворными. Бедность, богатство, церковь, армия, партии, благотворительные организации – всё это смешно. В конце концов у меня осталось только мое собственное жалкое существование, из которого уже не выбраться. Вот и хорошо. Ни одно учение больше не приживается, всему, что произносится и проповедуется, суждено стать смехотворным, ничто не стоит даже моего презрения, ничего больше не нужно, ничего. Если мы действительно постигнем мир, то увидим, что он полон заблуждений. Но мы всё же неохотно расстаемся с ним, потому что, несмотря ни на что, остались довольно наивными и по-детски простодушными, подумал я. Как хорошо, сказал я себе, что мне измерили глазное давление. Тридцать восемь! Не стоит обманывать себя. Упадешь в обморок в любой момент. Мне всё чаще снятся сны, в которых люди вылетают из окна и залетают обратно, прекрасные люди, растения, которых я никогда раньше не видел, с огромными листьями, размером с зонт. Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, но не чтобы выжить, а чтобы умереть. Мое решение дать девятьсот тысяч шиллингов племяннику, чтобы, по его словам, он смог наладить практику, соответствующую современным условиям, было внезапным, должен признать. Что соответствует современным условиям? С одной стороны, было глупо вкладывать такую большую сумму в ничто, но, с другой стороны, что нам делать с деньгами? Когда до моей сестры дойдет наконец, что я продал земли в Рузаме, меня уже не будет в живых. Эта мысль меня успокаивает. Я упаковал своего Вольтера, подумал я, и Достоевского, верное решение. Раньше я и правда довольно неплохо ладил с простыми людьми, которых давно уже называю исключительно так называемыми простыми людьми, я встречался с ними почти ежедневно, но болезнь всё изменила, теперь я к ним не хожу, теперь я избегаю их везде, где только возможно, скрываюсь от них. Отъезды приносят печаль, подумал я мимоходом. Так называемые простые люди, лесорубы например, пользовались моим доверием, а я – их. Я проводил у лесорубов по полночи. Десятилетиями я симпатизировал только им! Больше я у них не бываю. И, по правде говоря, будучи, в сущности, испорченными для всего простого, мы просто навязываемся этим людям, просто отнимаем у них время, общаясь с ними, мы не приносим им никакой пользы, только вредим. Сейчас я бы просто отговорил их от веры во всё, что им дорого, от социалистической партии, к примеру, или от католической церкви, и то и другое сегодня, как и всегда, впрочем, – циничные объединения по эксплуатации людей. Но утверждать, что эксплуатируют только слабых духом, в корне неверно, эксплуатируют всех, с другой стороны, это опять-таки успокаивает, это компенсация, вероятно, только так всё и может существовать. Если бы только мне больше не приходилось читать отвратительные газеты, которые у нас печатаются и которые являются вовсе не газетами, а просто грязными листками, издаваемыми алчными выскочками, если бы только мне больше не нужно было смотреть на то, что меня окружает! – сказал я себе. Одно заблуждение сменяло другое, как теперь я понял, размышляя в кресле перед отъездом. Я покидаю совершенно разоренную страну, отвратительное государство, которое приводит меня в ужас каждое утро. Сначала