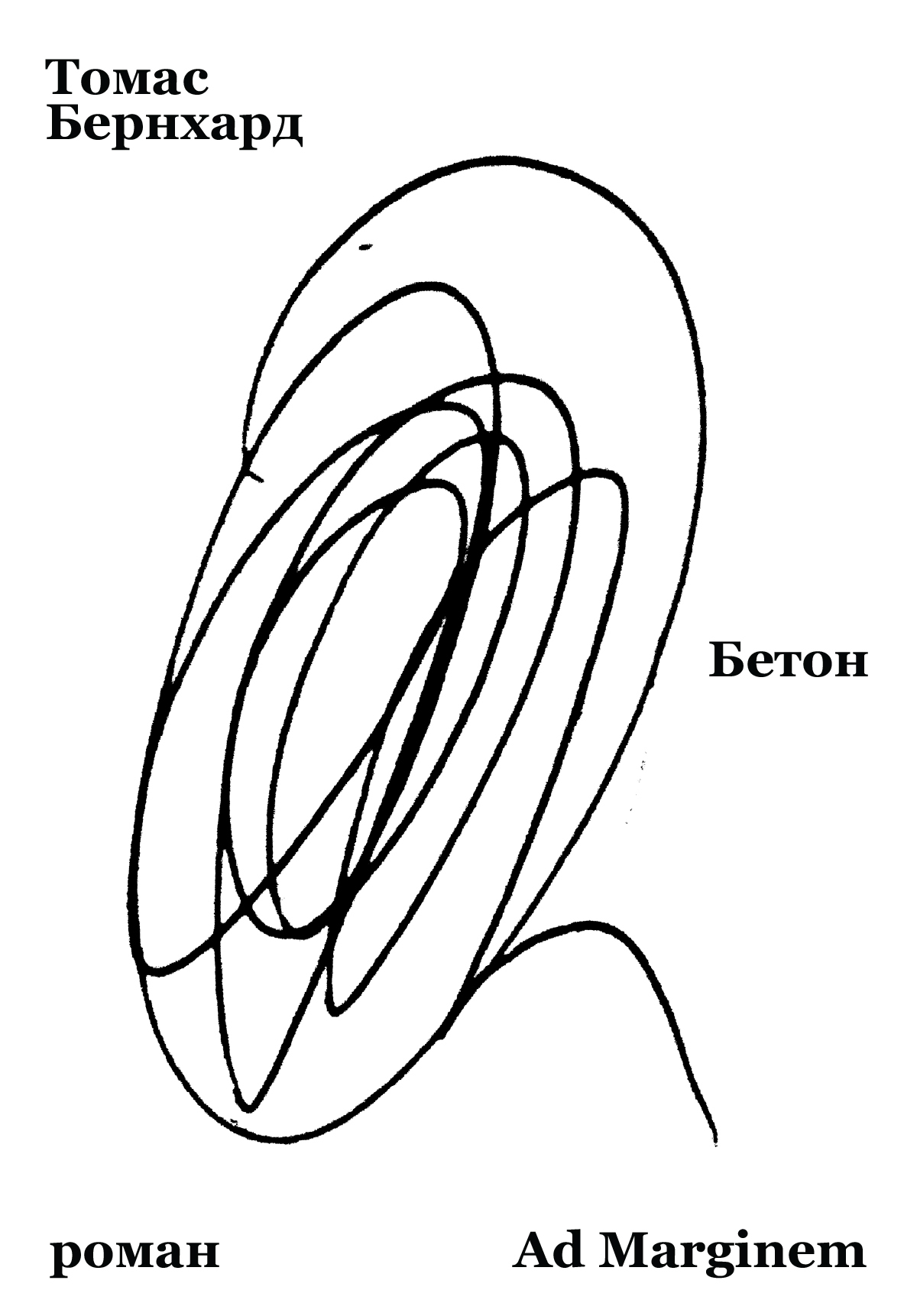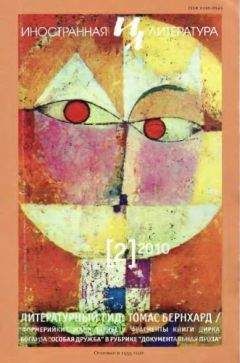Роман «Бетон» был написан Томасом Бернхардом (1931-1989) в 1982 году на одном дыхании: как и рассказчик, автор начинает работу над рукописью зимой в Австрии и завершает весной в Пальма-де-Майорке. Рассыпав по тексту прозрачные автобиографические намеки, выставив напоказ одни страхи (животный страх задохнуться, замерзнуть, страх чистого листа) и затушевав другие (бедность, близость), он превратил исповедь больного саркоидозом героя в поистине барочный фарс, в котором смерть и меланхолия сближаются в последней пляске. Можно читать этот безостановочный нарциссический спич как признания на кушетке психоаналитика, как типично австрийскую логико-философскую монодраму, семейный роман невротиков или буржуазную историю гибели одного семейства, главной темой всё равно остается музыка. Книга о невозможности написать книгу о композиторе Мендельсоне – музыкальное приношение Бернхарда модернизму, ставящее его в один ряд с мастерами «невыразимого» Беккетом, Пессоа, Целаном, Бахман.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
вовсе перестала со мной церемониться. Она всегда осознавала свою силу и вместе с тем мою слабость. Этой слабостью она пользовалась всю жизнь. Что касается нашего презрения друг к другу, то оно было взаимным и длилось десятилетиями. Меня тошнит от ее деловитости, ее тошнит от моих фантазий, мне отвратительны ее успехи, ей – мои неудачи. Беда в том, что у нее есть право поселиться в моем доме когда угодно, этот страшный пункт в завещании отца просто ужасает. Она обычно вообще не предупреждает о своем приезде, внезапно появляется и расхаживает по дому так, будто он полностью принадлежит ей, по моему дому, в котором у нее есть лишь право на проживание, но это право на проживание пожизненное и не ограничено в площади. И если ей взбредет в голову привезти своих сомнительных друзей, я ничего не смогу с этим поделать. Она заполняет собой весь мой дом, будто он только ее, вытесняя меня, и мне недостает сил сопротивляться‚ для этого нужен совсем другой характер, я должен бы быть для этого совсем другим человеком. И потом, я никогда не знаю, останется ли она на два дня или на два часа, на четыре или шесть недель или даже на несколько месяцев, потому что ей больше, видите ли, не нравится городская жизнь и она прописала себе деревенский воздух. Когда она говорит Мой милый младший братик, меня тошнит. Мой милый младший братик, говорит она, теперь в библиотеке я, а не ты, и действительно требует, чтобы я немедленно покинул библиотеку, даже если я зашел туда первым или вообще оказался задолго до нее. Мой милый младший братик, что толку изучать весь этот вздор, ты уже болен от него, почти помешался, жалкий, смешной человечек, сказала она вчера вечером, чтобы задеть меня. Ты целый год болтаешь о Мендельсоне. Ну и где твой ученый труд? сказала она. Ты имеешь дело только с мертвыми, а я – с живыми, вот в чем разница. В моем окружении живые люди, в твоем – только мертвецы. Потому что ты боишься живых, сказала она, потому что ты не желаешь приложить ни малейшего усилия, усилия, которое необходимо приложить, если хотят иметь дело с живыми. Ты сидишь здесь, в своем доме, в сущем склепе, и общаешься только с мертвецами, с матерью и отцом, с нашей несчастной сестрой и с так называемыми великими умами! Это страшно! На самом деле, она права, теперь я думаю, она говорила правду. Со временем я совершенно заблудился в этом склепе, которым стал мой дом. Я встаю рано утром в склепе, целый день бегаю туда-сюда по склепу и поздно ночью укладываюсь спать в склепе. Твой дом! – выкрикнула сестра мне в лицо, – твой склеп! Она права, сказал я себе сейчас, всё, что она говорила, правда, я не общаюсь ни с одной живой душой, даже с соседями порвал все связи; я вообще не выхожу из дома, разве что за продуктами. И почти не получаю писем, так как сам больше никому не пишу. Когда я выбираюсь поесть в ресторан гостиницы, я выбегаю оттуда, едва вошел, едва доел еду, от которой меня тошнит. Выходит, я почти ни с кем больше не разговариваю, и время от времени у меня возникает ощущение, что я уже не умею говорить, что я разучился говорить, неуверенно я делаю речевые упражнения, чтобы определить, могу ли я еще издать хоть звук, так как даже с фрау Кинесбергер бóльшую часть времени я не произношу ни слова. Она хорошо со всем справляется, и я не даю ей никаких указаний, иногда вообще ее не замечаю, и она уходит как пришла. В самом деле, почему я, собственно, отверг предложение сестры поехать к ней в Вену на несколько недель, так грубо, словно мне пришлось парировать злобное оскорбление? В кого я превратился после смерти родителей? – спросил я себя. Я сел в кресло в холле и тут же всем телом ощутил озноб. Дом был не пуст, он был мертв. Это склеп, подумал я. Однако как только здесь появляется кто-то еще, я просто не выдерживаю. Я снова увидел свою сестру в дурном свете. Ничего, кроме издевок и насмешек, у нее для меня не припасено. Она выставляла меня на посмешище постоянно, как только представлялась возможность, перед всеми кем можно. Так, неделю назад, во вторник, когда мы посетили так называемого министра (министра сельского хозяйства и культуры в одном лице!), который полностью реконструировал свою виллу и был мне отвратительнее всех остальных, она сказала во всеуслышание перед гостями в так называемом синем салоне (!), он (то есть я!) уже десять лет пишет книгу о Мендельсоне и не придумал даже первого предложения. Все эти тупые люди, рассевшиеся в отвратительно мягких креслах, расхохотались в голос, и один из присутствующих, терапевт из Фёклабрукка, соседнего города, спросил, кто, собственно, такой этот Мендельсон. На что моя сестра, демонически хохоча, исторгла слово композитор, что, в свою очередь, вызвало лишь отвратительный смех у этих людей, сплошь миллионеров и тупиц, к тому же затхлых графов и дряхлых баронов, которые из года в год носят провонявшие за десятилетия баварские шорты и наполняют свои убогие дни болтовней об обществе, болезнях и деньгах. Я захотел немедленно покинуть это общество, но одного взгляда сестры хватило, чтобы я отказался от своего намерения. Я должен был встать и уйти, думал я теперь, но тогда остался и терпел это ужасное унижение, которое продлилось до глубокой ночи. Нельзя было оставлять сестру одну в этом обществе, которое импонировало ей во всех отношениях, там ведь были сплошь уважаемые люди с огромным, неисчислимым капиталом и со всевозможными захватывающими дух титулами. Наверное, подумал я теперь, она учуяла выгоду, сестра заключала крупнейшие сделки с этими старыми графами и старыми баронами, которые очень часто незадолго до смерти распродавали огромные куски своих огромных владений, чтобы облегчить себе и, естественно, своим наследникам жизнь. Конечно, такой вечер в таком доме и в таком обществе может означать для моей сестры миллионную сделку, для меня это не значит ничего, но, конечно, мне всегда приходится считаться с сестрой. Она закидывает ногу на ногу, выдает старому барону какую-то льстивую и насквозь лживую фразу и тем самым зарабатывает на целый год праздной жизни, подумал я. Уже ребенком сестра обладала невероятно обостренным деловым чутьем. Я помню, как она обходила каждого гостя и откровенно просила денег, люди находили это оригинальным для ребенка семи-восьми