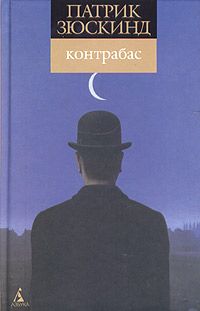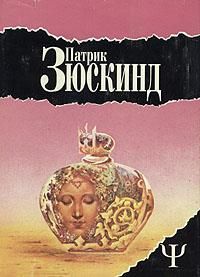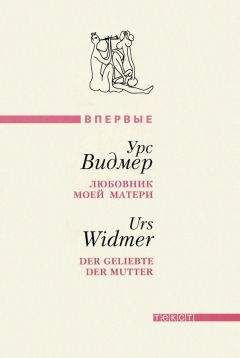И даже если бы охранник мог распознать грабителя и попытался его остановить, то был бы убит, мертв, прежде чем успел бы расстегнуть кобуру: ведь у грабителя всегда есть преимущество внезапности.
Охранник, считал Ионатан, подобен сфинксу (в одной из своих книг он однажды читал о сфинксах). Он производит впечатление не действиями, а простым физическим присутствием. Все, что он может противопоставить грабителю, – это свое присутствие, и только. «Ты вынужден пройти мимо меня, – говорит сфинкс осквернителю могил, – я не могу тебя остановить, но ты должен пройти мимо меня; и если ты дерзнешь совершить это, тебе придется меня застрелить, и тебя настигнет месть правосудия в виде приговора за убийство!»
Конечно, Ионатан прекрасно знал, что в распоряжении сфинкса имеются куда более действенные средства, чем у охранника. Охранник не может рассчитывать на месть богов. И даже в том случае, если грабитель плевать хотел на грядущее возмездие, сфинксу не грозит почти никакая опасность. Сфинкс вырублен из базальта, высечен из цельной скалы, отлит в металле или прочно зацементирован. Сфинкс без труда переживет осквернение гробницы на пять тысяч лет… А охраннику в случае ограбления банка придется расстаться с жизнью уже через каких-нибудь пять секунд. И все-таки они были похожи, сфинкс и охранник, считал Ионатан, ибо власть того и другого не была исполнительной, она была символической. И только благодаря осознанию этой символической власти, которая составляла его гордость и его достоинство, которая придавала ему силы и стойкость, которая защищала его лучше, чем внимательность, оружие или бронированное стекло, Ионатан простоял на мраморных ступенях, охраняя банк, вот уже тридцать лет, без страха, без сомнений в себе, без малейшего чувства недовольства и без угрюмого выражения лица – до сегодняшнего дня.
Но сегодня все было иначе. Сегодня Ионатану никак не удавалось обрести спокойствие сфинкса. Уже через несколько минут он ощутил груз собственного тела как болезненное давление на подошвы, перенес центр тяжести с левой ноги на правую и снова на левую, при этом его слегка зашатало, и ему пришлось сделать несколько маленьких шагов в сторону, чтобы сохранить равновесие, а ведь прежде он умел всегда держать тело в строго вертикальном положении. К тому же у него вдруг начался зуд на бедре, зачесались грудь и затылок. Через некоторое время ему показалось, что лоб стал сухим и зашелушился, как бывает зимой, а ведь теперь стояла жара, хотя времени было всего четверть десятого, невыносимая, неподобающая жара, лоб вспотел так, словно сейчас уже половина двенадцатого… чесались руки, грудь, спина, ноги до самого низа, зудело везде, где была кожа, он готов был расчесать себя всего, жадно, безудержно, но ведь охраннику не положено чесаться на глазах у всех! И он глубоко вздохнул, выпятил грудь, напряг и расслабил мускулы спины, приподнял и опустил плечи и таким образом потерся изнутри о свою одежду, чтобы доставить себе облегчение. Эти непривычные поеживания и подергивания снова вывели его из равновесия, для сохранения которого было уже недостаточно маленьких шагов в сторону, и Ионатан был вынужден еще до появления лимузина месье Ределя, то есть до половины десятого, отказаться от стояния на посту в позе статуи и перейти к патрулированию взад-вперед, семь шагов налево, семь шагов направо. При этом он пытался зафиксировать взгляд на металлической бровке второй мраморной ступени и перемещать его туда-сюда, как вагончик по надежному рельсу, чтобы этот равномерно вводимый в поле зрения вид окантованного металлом края ступени установил внутри его желанную невозмутимость сфинкса, которая заставила бы его забыть о тяжести собственного тела и зуде по всей коже и вообще обо всей странной неразберихе плоти и духа. Но ничего не вышло. Вагончик постоянно сходил с рельса. Взгляд то и дело отрывался от проклятой бровки, и в поле зрения попадали совсем другие вещи: обрывок газеты на тротуаре; нога в голубом носке; женская спина; корзина с хлебом; ручка внешней бронированной стеклянной двери; светящийся красный ромб табачного киоска у кафе напротив; велосипед; соломенная шляпа; чье-то лицо… Но зафиксировать взгляд, вобрать в себя некий образ, чтобы остановиться и сориентироваться, никак не удавалось. Едва справа в поле зрения оказывалась соломенная шляпа, как слева наезжал автобус, увлекая взгляд за собой вниз по улице, но уже через несколько метров его сменял белый спортивный «кабриолет», снова уводивший внимание по улице вверх, а в это время соломенная шляпа исчезала: взгляд напрасно разыскивал ее среди прохожих, среди множества шляп, останавливался на какой-то розе, подрагивавшей на совсем другой шляпе, отрывался от нее, наконец, снова падал на бровку ступени, снова не мог остановиться, устремлялся дальше, не находя покоя, перескакивал с точки на точку, с пятна на пятно, с линии на линию… Казалось, сегодня в воздухе висело какое-то горячее мерцание, характерное только для самого жаркого июльского полдня. Все вещи окутывала прозрачная дрожащая дымка. Контуры домов, линии крыш, фронтоны с пронзительной яркостью вычерчивались на фоне неба, но в то же время лохматились, словно обшитые бахромой. Края дождевых желобов и зазоры между каменными плитами тротуара, обычно прямые, словно проведенные по линейке, сегодня извивались искрящимися кривыми. А все женщины были одеты в броские платья, они, как языки пламени, проносились мимо, увлекая за собой взгляд, но все-таки не давали ему задержаться на себе. Все очертания расплывались. Ничего нельзя было ясно рассмотреть. Все мелькало и мельтешило.
«Что-то у меня с глазами, – думал Ионатан. – За одну ночь я стал близоруким. Нужны очки». Ребенком ему пришлось один раз носить очки, не сильные, минус семьдесят пять сотых диоптрии для правого и левого. Странно, что эта близорукость снова докучает ему в пожилом возрасте. Он где-то читал, что с возрастом у людей развивается дальнозоркость, а близорукость проходит. Может быть, он страдает не классической близорукостью, а чем-то таким, чему очки не помогут, может, у него бельмо, или глаукома, или отслойка роговицы, или рак глаза, или опухоль мозга, которая давит на глазной нерв…
Он был так поглощен этими ужасными мыслями, что короткие повторные гудки автомобиля не сразу дошли до его сознания. Только после четвертого или пятого гудка – теперь уже продолжительных – он услышал, и отреагировал, и поднял голову: действительно, перед воротами уже стоял черный лимузин месье Ределя! Раздался еще один гудок, и из машины ему даже помахали рукой, значит лимузин простоял уже несколько минут. Перед воротами с опущенной решеткой! Лимузин месье Ределя! Как же он прозевал его приближение? Обычно он ощущал его, даже не оглядываясь, угадывал по едва слышному гудению мотора, он,