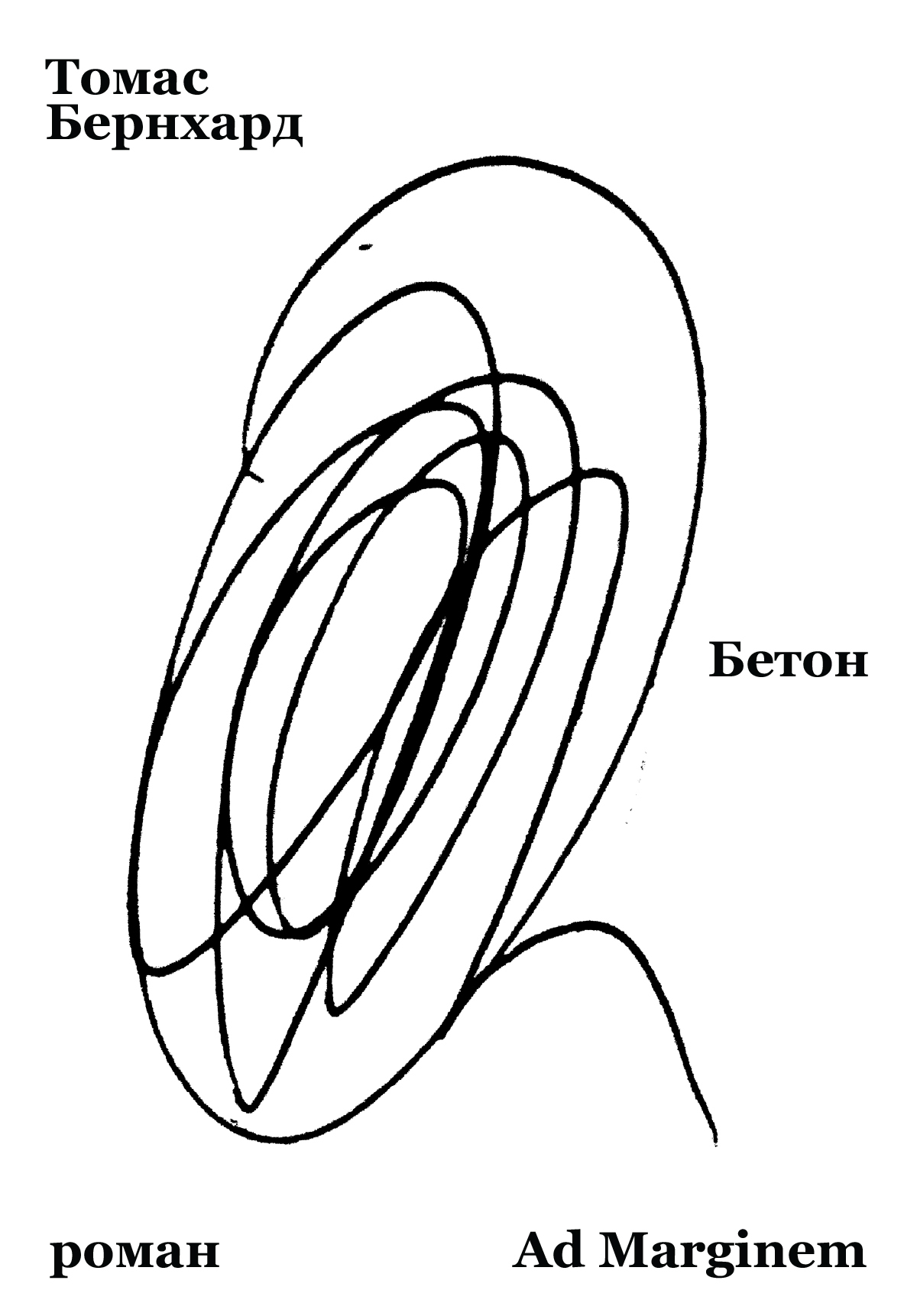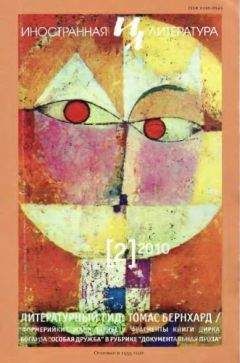Роман «Бетон» был написан Томасом Бернхардом (1931-1989) в 1982 году на одном дыхании: как и рассказчик, автор начинает работу над рукописью зимой в Австрии и завершает весной в Пальма-де-Майорке. Рассыпав по тексту прозрачные автобиографические намеки, выставив напоказ одни страхи (животный страх задохнуться, замерзнуть, страх чистого листа) и затушевав другие (бедность, близость), он превратил исповедь больного саркоидозом героя в поистине барочный фарс, в котором смерть и меланхолия сближаются в последней пляске. Можно читать этот безостановочный нарциссический спич как признания на кушетке психоаналитика, как типично австрийскую логико-философскую монодраму, семейный роман невротиков или буржуазную историю гибели одного семейства, главной темой всё равно остается музыка. Книга о невозможности написать книгу о композиторе Мендельсоне – музыкальное приношение Бернхарда модернизму, ставящее его в один ряд с мастерами «невыразимого» Беккетом, Пессоа, Целаном, Бахман.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
походка, и утверждает, что эти люди ее, а значит, и мои родственники. У меня нет родственников, всё время твержу я ей, только духовное родство, мертвые философы – вот мои родственники. На что сестра реагирует своей обычной ехидной улыбкой. Но с философией ты не можешь лечь в постель, мой младший братик, часто говорила она, на что я столь же часто возражал, конечно могу, по крайней мере, я при этом не испачкаюсь. Это мое замечание однажды привело к тому, что она в моем присутствии на вечеринке в Мюрццушлаге, куда она затащила-таки меня после бесконечных уговоров, сказала: мой младший братик спит с Шопенгауэром. По очереди – то с Шопенгауэром, то с Ницше. Само собой, она снискала заслуженный успех, как всегда, за мой счет. Собственно, я всю жизнь восхищался той легкостью, с которой сестра умеет вести беседу, даже сейчас или, вернее, как раз сейчас, обладая куда большей независимостью, она избавляется от самых сложных социальных преград, если такие преграды для нее вообще когда-либо существовали. Не знаю, откуда у нее этот талант, нашего отца общество вообще не интересовало, а мать, как она сама признавалась, не любила всю эту светскую суету. Деловое чутье, которое, как ничто иное, характеризует мою сестру и о котором никто из тех, кто не знает ее так же хорошо, как я, не догадывается, она унаследовала от нашего деда по отцовской линии, именно он сколотил состояние при самых странных обстоятельствах и, что бы там ни было, накопил столько, что мы, сестра и я, уже в третьем поколении имеем достаточно средств для существования, и оба живем, в общем-то, не очень уж скромно. Хоть я и живу в Пайскаме один, но трачу я в месяц столько, сколько не тратит иная большая семья, ибо кто еще отапливает всю зиму более девяти комнат, и не маленьких, для себя одного, ну и так далее. Всё так, и даже если принять во внимание, что я абсолютный дилетант во всех так называемых денежных вопросах, я бы мог прожить еще двадцать лет, не зарабатывая ни гроша, и даже тогда у меня сохранялась бы возможность постепенно, не нанося существенного ущерба имению и тем самым не снижая его стоимости, один за другим продавать мелкие участки земли, в чем, вообще-то, нет надобности и что было бы абсурдно, учитывая, что жить мне осталось совсем недолго из-за неотвратимо и неуклонно прогрессирующей болезни, год-два, не больше, к тому времени мои жизненные потребности, что бы мне еще ни оставалось в этом мире, будут фактически утолены. Я мог бы, если захотел, назвать себя обеспеченным, в отличие от сестры, которая по-настоящему богата, ведь богатство, открытое взору, намного меньше ее реального богатства, но куда более существенно я отличаюсь от нее, например, в одном уже упомянутом вопросе: она жертвует миллионы церкви и прочим сомнительным организациям, чтобы попасть в рай и развлечься, я же вообще ничего не жертвую и не допускаю даже мысли о том, чтобы пожертвовать на что-то в мире, который задыхается в миллиардах и лицемерит о благотворительности при малейшей возможности. Да у меня и нет желания неделями напролет развлекаться каким-нибудь пожертвованием на благотворительность, нет у меня и дара наслаждаться сообщениями в газетах о моей щедрости и милосердии, поскольку я не верю ни в щедрость, ни в милосердие. Так называемый добродетельный мир насквозь лицемерен, и тот, кто провозглашает обратное или даже отстаивает это, – или изощренный преступник, или непроходимый идиот. Сегодня в девяноста случаях из ста мы имеем дело с такими изощренными преступниками, а в оставшихся десяти – с непроходимыми идиотами. Ни тем ни другим не поможешь. Церковь, подходящий пример, обдирает и тех и других, любая церковь, но католическую я знаю слишком хорошо, чтобы дать ей малейшее преимущество, она самая изощренная из всех и обдирает кого только можно, а бóльшую часть своих денег получает от бедных и нищих. Но этим бедным и нищим не поможешь, ложь о том, что помочь можно, самая распространенная, и звучит она чаще всего из уст политиков. Бедность неискоренима, и тот, кто думает ее искоренить, замышляет не что иное, как искоренение самого человечества, а значит, по сути, самой природы. Чем больше пожертвований и чем выше суммы, которые раздает моя многоопытная сестра, тем громче и инфернальнее ее смех, любой, кто услышал бы ее благотворительный смех, узнал бы, вокруг чего вращается мир. Я так часто слышал этот смех, что больше не хочу его слышать. Люди то и дело говорят о том, что их долг найти путь к другому человеку, к ближнему, как они постоянно говорят со всей гнусностью фальшивых чувств, тогда как речь идет лишь о том, чтобы найти путь к самим себе, пусть каждый сначала найдет путь к самому себе, и поскольку до сих пор мало кто нашел путь к самому себе, так же невообразимо, чтобы кто-либо из этих миллиардов несчастных когда-либо нашел путь к другому, или к ближнему, как говорят они, погрязшие в самообмане. Мир настолько богат, что он и вправду может позволить себе всё, только этому совершенно осознанно препятствуют политики, правящие этим миром. Они взывают о помощи и при этом ежедневно выбрасывают на ветер миллиарды только на оружие, и им не стыдно. Нет, я решительно отказываюсь подать этому миру даже грош, ибо я далек от лукавой одержимости благодарностью, которой так жаждет моя сестра. Люди, твердящие, что готовы на любую жертву, и без передышки жертвующие всем, наконец, и своей жизнью, святые, что толпятся со своим самопожертвованием и жертвенностью, как свиньи у корыта, во всех странах и на всех континентах, могут носить любые, мыслимые и немыслимые, имена, Альберт Швейцер или мать Тереза, мне в высшей степени противны. Эти люди не помышляют ни о чем, кроме как быть осыпанными почестями и медалями за счет тех, о ком они якобы так хорошо заботились, и тех, что взывали к ним с простертыми, ищущими помощи руками. Этих опасных людей, как никто другой своекорыстных и самодовольных и, по сути, в глубине души жадных до власти, чье количество исчисляется миллионами, от святого Франциска Ассизского до матери Терезы, людей, что изо дня в день толкутся в бесчисленных религиозных и политических обществах по всему миру, только чтобы удовлетворить собственную жажду славы, я глубоко презираю. Так называемый социальный элемент, о котором беспрерывно и до одури твердят столетиями, является гнуснейшей ложью. Я отвергаю его, даже рискуя быть неверно понятым, что, по