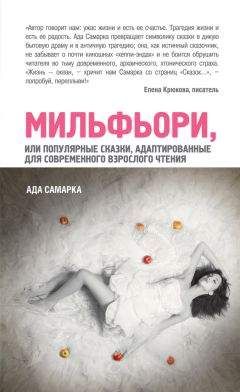К весне, когда морозов уже не было, он стал выползать из своего убежища, жрать траву, какую попало, словно больной пес, стал по-звериному прислушиваться к звукам вокруг, к хвойному похрустыванию леса, будто оценивая силу этого враждебного мира вокруг, как оценивают силу соперника перед спаррингом. Весь тот мир за пределами разрушенного дровяного сарая виделся ему водянистой, словно пузырь, выпуклостью, она выпирала оттуда из леса, и тяжесть ее он примеривал на свои плечи много ночей подряд, прикидывая, как можно отсюда попасть в явочную квартиру в Москве, где его должны были узнать и помочь. В одну такую ночь, голый, плечистый, стоящий наконец ровно, выпрямивший все свои сто девяносто два сантиметра, сделав несколько приседаний, махов, со свистом рассекающих воздух ударов, он принял решение уходить.
Четыре месяца прошло с тех пор, как его несколько часов били на невысоком, поросшем травой берегу моря, а рядом на треноге в котелке уютно булькала уха, и небо над горизонтом шло багряными и пурпурными полосами.
К весне бункер был почти готов – наладилась система водоснабжения, была оборудована чудесная выгребная яма со стоками, и как-то сам собой решился вопрос с Раей, что она теперь Платон Максимовича, а живет у Марии Ильиничны уже по чистой дружбе, помогая с подросшими близнецами. Ей было радостно, что Хосе уходит, и, хотя он звал ее с собой, говорил, что уже есть лодка в трех верстах отсюда, он будет бежать вверх по реке Варзуге, там по северному берегу, а не по Терскому, доберется до Мурмана и продаст украденные Раей у Платон Максымыча часы и золото, подкупит железнодорожных диспетчеров и в грузовом вагоне доберется до Москвы, Рае мысль о новых скитаниях казалась мучительной, а родное усыпляющее печное тепло, зимняя дремота, запах сетки и мокрой шерсти стали полноценными составляющими жизни, без которых эта жизнь рассыпалась бы, и пришлось бы начинать все сначала – Жучилины, голодные скитания…
«Милая девочка», – с легким акцентом говорил Хосе, гладя ее. И не было в его глазах ни тени вожделения, – наверное, между ними с Раей была именно дружба, какая невозможна между мужчиной и женщиной, но тень которой непременно присутствует в любви и признательности между человеком и вылеченным им зверем, например. Шагая по мхам и лишайникам, продираясь через спутанные, оброненные рогами сосновые ветви, он думал о Рае и чувствовал такое, что можно описать как восход весеннего северного солнца – когда умытое, будто сделанное из холодной платины, оно вылезает из белого моря.
До Мурмана он добрался быстрее, чем думал – рыбаки подобрали его на первой же ночевке на северном берегу, когда Хосе как зверь пришел погреться у костра, – и знали ведь, что за люди тут могут бегать по лесам, и не доложили никуда, просто взяли два мешочка Платон Максимычевой махорки и молча высадили на Чирковом мысе.
А Платон Максимович, подслеповато щурясь и старчески шамкая, стал читать вдруг Псалтырь, заключенный в кожаный с позолотой переплет, и заставлял Раю сидеть рядом и слушать, хотя разобрать его чтение было невозможно. На свой страх и риск нашел священника, который бы обвенчал их перед уходом под землю. Казалось, даже Марии Ильиничне становилось не по себе от этой затеи, и она все реже спускалась к ним. А Раю Платон Максимович старался держать при себе, говорил, что детишки подросли уже, что их можно спокойно оставлять с соседской восьмилетней девочкой, что та тоже подросла, и сперва все норовил придумать для Раи какую-то работу: то носки заштопать, то бушлат отремонтировать, то перебрать мелкую, начавшую прорастать картошку. «Да что то солнце, все беды от него, не люблю, когда яркий свет», – бурчал он, торопливо подталкивая ее в спину, пропуская вниз перед собой. Рано утром как-то она хотела пойти попробовать воду в море. Наверное, самые счастливые минуты ее жизни были в Одессе, на пляже в Аркадии, когда Жучилин сидел где-то далеко, в белых брюках и белой рубашке с вышивкой, а она вместе со смуглой местной детворой плескалась, брызгаясь и захлебываясь. Потом Платон Максимович перестал отпускать ее днем, только на ночь подышать свежим воздухом, хотя в свежесть эту не верил – воздух под землей, недвижимый и тихий, казался ему самым чистым на свете. Рая полюбила переливать воду из пятнадцатилитровой эмалированной кастрюли в цинковое ведро, и вода каждый раз пахла камнями и железом, и виделась ей вполне живой субстанцией, мягкой лапой, наступающей и заполняющей собой эмалированную емкость. Еще в ведре вода была не такого вкуса, как из кастрюли. Желая чем-то ее занять, Платон Максимович притащил мотки спутанных цветных ниток, тупую иглу и льняные полотенца – чтобы вышивала. Простые портняжные стежки у Раи получались очень хорошо, а с вышивкой не сложилось. Она вышивала солнце сотнями маленьких звездочек, и оно вышло каким-то кривым клубком, ни на что не похожим.
Голубовато-розовое прохладное северное лето пролетело быстро. Ночи становились все темнее – день снова убегал и горел там, за лесом, синим заревом, негаснущим рассветом. Рая сама сшила себе платье для обряда. Платон Максимович готовился замуровать главный подкроватный вход в подземелье, а где еще один, никому не говорил, гнусаво ухмыляясь, торопливо бормоча что-то неразборчивое. «То есть я никогда туда не поднимусь больше?» – недоумевала Рая. «А что там тебе делать-то? Что хорошего тебе тот мир дал? Марью Ильиничну – несчастную больную женщину? Режим этот убийственный? Да ты знаешь, какие погромы тут были? Как немцы тут зверствовали… зачем нам тот свет? Не нужен нам тот свет…»
В первые дни сентября приехал священник. Чертыхаясь и боясь всего на свете, Мария Ильинична провела его сперва в свой дом, тогда же вспомнила, что девчонке полагается приданое. С раздражением вздохнув, вынула из сундука старинные кружева – единственную ценную вещь в доме. Платон Максимович готовился обвенчаться прямо у себя в спальне и потом, спрятав Раю под землю, замуровать вход навсегда. Окна его дома уже были давно заколочены, мебель частично перетащена вниз, частично разобрана и сожжена. Опустевшая спальня выглядела пугающе нежилой. Сквозь доски неровными горящими полосами бился солнечный свет – в этот день оно было непривычно ясным, не затянутым облаками.
«Можно, я выйду посмотреть на него в последний раз?» – спросила Рая, пока молодой священник, облачившийся уже в рясу, ходил из угла в угол, читая святое писание и готовясь к обряду. Платону Максимовичу понравилось то, как она сама и так просто сказала «в последний». Дело в том, что он панически боялся умереть в одиночестве, и в последние месяцы чувствовал, как что-то стало верно рушиться в его организме. Он никогда не задумывался о дальнейшей судьбе странной лилипутки, ему казалось, что она уже родилась нежильцом и ее каждый вздох здесь – недоразумение (оттого и солнце… какое вообще солнце ей может быть нужно?). Что он обрекает ее на мучительную смерть там, внизу, оставив одну, не знающую второго выхода, волновало его меньше всего.
Впервые почти что за год Рая вышла на улицу днем. Она шла, натыкаясь на кочки, вниз, к морю, глядя на солнце, не боясь ослепнуть, чувствуя, как оно своими лучами берет ее за щеки, наклоняется, и пахнет тем настоящим сдобным белым хлебом, какой никогда не будет испечен на этой заполярной земле. Море было гладкое, синевато-белое, и прямо к ее ногам стелилась широкая неровная дорожка из золотой и платиновой ряби, и кто-то звал ее по имени. Не из-за спины, откуда веяло могильным холодом и пахло подземельем, безвременьем, вечной тьмой, недвижимым воздухом, спертой тишиной – а оттуда, будто из разложенных под водой солнечных ладоней, в которых, переливаясь, играла россыпь огнистых лепестков.
Прижав руки к груди, кутаясь в кружевной платок, Рая, ослепленная солнцем, щурясь, смотрела на подрагивающее черное пятно, которое, видоизменяясь, приближалось… Прошуршав, лодка села на мель, и кто-то, хлюпая по воде, шел прямо к ней. Силуэт заслонил солнце, и оно теперь горело у него в волосах – черных и кудрявых. Часто моргая, Рая смотрела на него, боясь узнать.
Он взял ее за плечи, поднял, посадил себе на руку. Он пах хорошим табаком, здоровьем и солнцем.
– Ты что, как ты мог вернуться? Зачем ты вернулся?
А из-за его спины слышалась русская речь – уверенные военные голоса отдавали команды.
– Я показывал товарищам комиссарам это место.
Где-то вдалеке зафыркал и зачихал дизельный мотор.
– Я же коммунист, я главный коммунист Испании, я – Хосе Пилар Морено, Раюшка, просто никто мне не верил, только в Москве знали, и я добрался тогда! А какая ты нарядная сегодня! Смотрите, какая она нарядная!
– Я замуж выхожу, за Платон Максимыча, – сказала Рая и расплакалась, уткнувшись носом в смуглую, пахнущую солнцем и хлебом шею.
Хосе нахмурился, прижал ее к себе чуть теснее, положил большую теплую ладонь на затылок, будто защищая.