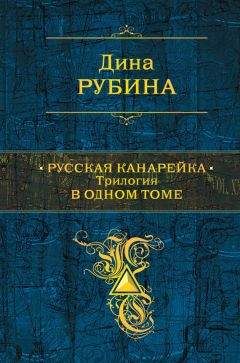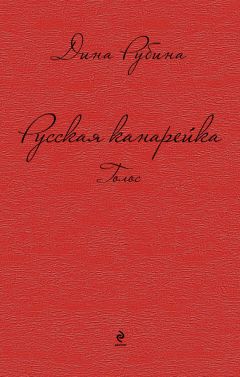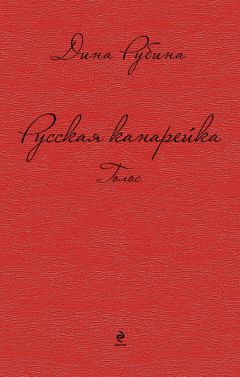А Леон скучал по нежному хамству Григория Нисаныча, вспоминая, как наливалась вишневым соком груша его вислого носа, если ученик фальшивил, и как колотил он Леона по спине мягким волосатым кулаком и орал: «Звук!!! Где твой хер-р-ровый звук?»
Через месяц Леон уже участвовал в первом своем благотворительном концерте в доме Иммануэля, вполне прилично исполняя под аккомпанемент «верного Гриши» концерт Людвига Шпора. Кажется, в тот вечер собирали средства на строительство хостеля для солдат-одиночек.
Впоследствии Леону приходилось бывать на самых блестящих приемах и светских раутах в самых великолепных особняках, дворцах и театрах. И он вполне отдавал себе отчет, насколько «попрошайские посиделки» у Иммануэля вышколили его, сызмальства выучив непоказным приличным манерам, умению приветливо и неназойливо завязать беседу и столь же изящно ее закруглить, когда течение этой беседы становится для тебя нежелательным; ответить на вопрос, не пускаясь в долгие объяснения, и вскользь поинтересоваться тем, что остро тебя занимает. Приучили к мелким, но полезным умениям и знаниям – вроде того, какой нож чему на столе предназначается, когда удобнее расстелить салфетку на коленях, а когда лучше заложить ее за воротник, и как поухаживать за дамой, сидящей справа, и что ей рассказать, чтоб ее вздорный лепет не мешал слушать чрезвычайно важный разговор двух неприметных господ напротив.
Его унаследованное от Эськи «чувство стиля» было отточено и доведено до совершенства в открытом всем ветрам доме невзрачного крапчатого старичка среди выдающихся полотен и скульптур.
У Иммануэля собиралась старая израильская аристократия: легендарные генералы с задубелыми лицами пожилых кибуцников; научные гении с недостающей на рубашке пуговицей; два лауреата Нобелевской премии в каких-то областях химии или физиологии; выдающаяся актриса Камерного театра Фанни Стравински с мужем, о профессии и должности которого никто ничего не знал или многозначительно помалкивал; неприметный, неразговорчивый, весь пружинистый и каучуковый человек со смешным именем Сёмка Бен-Йорам, которого все так и называли: Сёмка.
Бывали там известный скульптор Тумаркин, и дирижер израильского симфонического оркестра Зубин Мета, и скромный, с внешностью учителя ботаники, специалист по ядерной физике, под чьим недреманным оком вырос таинственный реактор в пустыне. Был еще сухонький мальчик, вечный Питер Пэн, старый юрист и выпускник Сорбонны – бывший генеральный прокурор, бывший министр юстиции, член комиссии ООН по правам человека и советник Президента по каким-то каверзным вопросам (Иммануэль говорил про него: «Хаим? Это гигант, гигант, старый поц!»), и наконец, солисты израильской оперы – все многоцветье голосов, что не гнушались перед гастролями по Южной Америке или Северной Италии обкатать часть программы на таком вот «домашнем полигоне».
Иммануэль, веснушчатый хитрый гном с вечно прищуренным правым глазом (зрелая катаракта, которую он решил не оперировать: «Все равно завтра подыхать!»), возникал в центре любой группки всегда в самый разгар спора, перекрывал любой разговор своим зычным «заявительным» голосом, обращая в шутку любое мнение, предъявляя «личное свидетельство», вытаскивая из своей необъятной биографии то такой эпизод, то этакую встречу, то судьбоносный спор шестидесятилетней давности.
– Эти три подонка – я имею в виду Ибн Сауда и двух его шпионов, Джека Филби и Аллена Даллеса, – они и вырыли ту выгребную яму на Ближнем Востоке, из которой все мы сегодня хлебаем помои. Филби и Ибн Сауд насадили американские нефтяные корпорации, сделали их хозяевами, а помогал им этот адвокатишка Даллес, суч-потрох, американский шпион! – координировал действия американской разведки на Ближнем Востоке. Эта троица и заказывала музыку, а дирижировали нацисты, потому как доходы Даллеса были завязаны на Германии, и всем это было известно. Эти трое сколачивали террористические группы и посылали их сюда, и предавали всех и всякого, кто имел с ними дело… Даллес! Однажды я столкнулся с ним на каком-то приеме в Лондоне и выплеснул чашку кофе на его белоснежную грудь. Больше меня туда не приглашали, но рубашку я ему испортил навеки… Ха! Ватикан… Ватикан сейчас более всего озабочен вопросами выживания всей конгрегации… В конце шестидесятых они попросили моей помощи в подборе картин современных мастеров для их коллекции и однажды пригласили на обед… Ну-у, это был странный обед: бумажные салфетки, стол без скатерти, металлические вилки и ножи… Я удержался от замечаний, конечно. Но разве христианское смирение в том, чтобы не иметь приличного платка – высморкаться, суч-потрох?..
…Когда, много лет спустя, где-нибудь на приеме в посольстве Испании или Франции Леон обводил взглядом публику, отмечая то лицо знаменитого комика, то широкие плечи олимпийского чемпиона, то профиль шоколадной фотомодели, то парочку явных резидентов под прикрытием дипломатических должностей, он всегда с грустным удовольствием думал: «У Иммануэля бывало круче…»
* * *
Уже и не вспомнить, когда Иммануэль впервые сам позвонил Леону – будто обычное это дело, будто каждый день звонил пожелать доброго дня – и велел приехать «вот сейчас, да-да, именно, и инструмент прихвати».
Леон ужасно взволновался: минут через пять он должен был выйти из дома на репетицию оркестра музыкальной школы, но, услышав голос Иммануэля в трубке, решил все немедленно отменить и ехать. Забормотал, что, конечно, сейчас же выскочит… на автобус до станции, а там в три часа есть автобус до…
– Оставь этот караван вьючных верблюдов, цуцик, – нетерпеливо оборвал Иммануэль. – Вызови такси и езжай прямо ко мне, я заплачу. Хочу тебя кое-кому показать.
Леон схватил кларнет, выскочил и сразу поймал такси. Водила попался лихой и наглый, и, несмотря на дождь, подрезал и обгонял всех на горных виражах, так что долетели минут за сорок, и пока мчались, Леон пытался угадать, кому там он должен показаться, фантазируя и представляя себе чуть ли не Лучано Паваротти собственной персоной (и ничуть бы не удивился).
Но под навесом в патио сидел рядом с Иммануэлем такой же мужичок-боровичок, как и сам хозяин, неприметный и какой-то… допотопный, которого Иммануэль слегка насмешливо звал то Амосом, то Пастухом. Для Леона это оказалась странная и совсем неинтересная встреча, страшно его разочаровавшая (пропущенной репетиции было жаль).
Иммануэль попросил его сыграть, и он заиграл что-то из недавно выученного, потом его попросили спеть… И хотя мальчик в то время уже избегал петь этим надоевшим ему «бабьим» голосом, за который его все время дразнила неуемная Габриэла, и устал ждать, когда наконец придет и минует природная ломка и новенький, еще неуверенный, как птенец, его тенор (или даже баритон?) раздвинет голосовые связки, как прутья клетки, и вылетит на волю, – он не смог отказать Иммануэлю и послушно запел свое коронное, из «Нормы», что всегда повергало в трепет тех, кто слышал это впервые.
Он пел, равнодушно отмечая, как с первыми звуками меняется выражение лица у неприметного мужичка, как складывает тот ладони домиком и, подперев им крошечный колючий подбородок, задумчиво рассматривает рябоватую от мелкого дождика воду бассейна. И когда Леон умолк, мужичок пробормотал, не поднимая глаз на мальчика:
– М-да… очень похоже… – И повернувшись к Иммануэлю: – Знаешь, что мне это напомнило? Нашу канарейку в Вильно, до войны. Мама выпустила ее из клетки, когда всех нас уводили в гетто. Сказала: пусть хоть кто-то из семьи будет на воле.
– При чем здесь гетто?! – вскричал Иммануэль. – И здесь не Вильно. Ты хоть понял, с чем имеешь дело, Пастух?!
И тот опять сложил ладони, как пастор перед молитвой, и задумчиво произнес:
– Пока не вижу, чем это может пригодиться. Разве что внешность…
Пастух действительно пас, и овечки его были особенного рода, а отправить на пенсию семидесятилетнего Амоса не решился бы ни один из руководителей конторы.
Дело было вовсе не в количестве его заслуг перед страной (большинству из них суждено было оставаться под грифом секретности еще добрых полсотни лет), а в том, что заменить его было некем.
На протяжении многих лет раза два в неделю Пастух отправлялся на работу в министерство просвещения, где давно числился штатным психологом, получая за эти полставки весьма неплохую зарплату. Год за годом на правах сотрудника минпроса Амос объезжал школы и интернаты, детские сады и молодежные лагеря и выискивал, выискивал, выискивал…
Главный интерес в «овечках» для него представляло все, что так или иначе могло пригодиться разведке в недалеком будущем, включая странные особенности, вроде полного отсутствия у ребенка каких-либо талантов, кроме невероятной памяти, мгновенно и совершенно бездумно глотавшей мегабайты информации, или способности у какой-нибудь в остальном самой обыкновенной девчушки мгновенно совершать в уме никому не нужные – в наше-то компьютерное время – громоздкие арифметические действия.