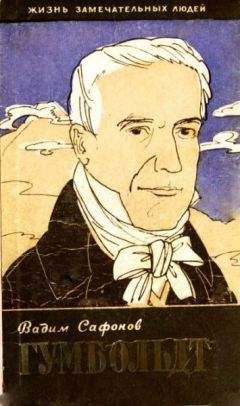Я, конечно, узнаю, что там затевала моя мама. Если у меня останется время. Потому что мне вдруг показалось, что времени у меня совсем мало. Даже не у меня. У нас у всех. Но это как-то быстро промелькнуло в моей голове. Мелькнуло – и умчалось.
– Интересно, – спросила я папу, – а почему мне никто не задал ни единого вопроса? Так сказать, по существу скандала?
– Во-первых, – горделиво сказал папа, – ты моя дочь. Ты понимаешь, что это значит для обыкновенных мещан? А эти адвокаты, несмотря на все их образования и все их гонорары – самые обыкновенные мещане. А мещане в нашей империи привыкли уважать дворян и офицеров, что, собственно, одно и то же. А во-вторых, зачем задавать вопросы, когда уже ничего нельзя поправить? В таких расспросах есть что-то мстительное, что-то бессмысленно-мучительское. И опять-таки что-то мещанское. Разобьет мещанский мальчик чашку, и тут же: зачем ты это сделал? Куда ты смотрел? Почему зазевался? А чашка-то уже вдребезги. И вся так называемая современная литература – та же мещанская болтовня. Или, что хуже, мелкий мещанский садизм – я бы так сказал. Вот это вот копание во всякой психологии, в мотивах поступков, которые уже совершились. Понимаешь, Далли, они уже совершились и уже ничего не поправишь. Вот в этом отличие благородной жизни от жизни мещан, благородной мысли от мещанской, благородной литературы от слюнявой и похабной мещанкой словесности. Если благородному дворянину изменяет жена, – сказал папа, – он может прогнать жену или убить ее. Прогнать, если он милосерден и добр. Убить, застрелить, заколоть шпагой, если он вспыльчив. Вызвать на дуэль соперника, если он храбр. Уехать в другую страну от такого позора, если он, мягко говоря, нерешителен. – Папа щелкнул пальцами. – Вот как поведет себя благородный мужчина. А мещанин? Он никого не убьет. И с женой не разведется. Он останется с ней жить. Он будет ложиться с ней в постель. Прости меня, Далли, но ты уже взрослая девушка. Ты уже собралась замуж, не так ли?
– В принципе папа, в принципе собралась, – поправила я. – У меня нет жениха, ты же знаешь. Но я собираюсь в ближайшее время его найти, обручиться, повенчаться и все такое. Надеюсь, ты не против?
– Что ты, дочь моя, я буду счастлив. Но тем более ты все должна понимать. Так вот, мещанин. Он ложится с женой в постель после измены. Он делает с ней новых детей, но при этом садистически ковыряется в ее душе и в собственной тоже. Он донимает ее злобными и бессмысленными вопросами: а зачем ты это сделала? А почему ты поддалась на его уговоры? Или, может быть, ты сама его соблазнила? Кто же ты есть? Слабое, похотливое существо или развратная тварь? За что ты его полюбила? Чем он тебя так привлек? Он красивее меня, умнее, богаче? Извини за выражение, тебе с ним заниматься любовью было приятнее, чем со мною? И вот так годами. А потом этот мещанин будет пристально всматриваться в черты своих детишек и мучительно решать, его ли это дети или это изменница-жена набаловалась. Вот такое взаимное мучительство. И вот такова она – современная литература. И вообще вся ваша хваленая современность с ее равноправием и пристальным вниманием к внутреннему миру рядового человека.
– Это ты цитируешь? – спросила я.
– Это я цитирую, – согласился папа. – В каком-то журнале читал, не помню. Чем больше книг читаешь, тем меньше толку. Они все совершенно одинаковые. Очевидно, тут что-то вроде закона Гаусса. Ты же изучала это со своей Эжени.
– Кажется, – сказала я.
– Чем больше однородных предметов, тем ровнее кривая распределения. Кажется, так, – сказал папа, рисуя в воздухе что-то похожее на шляпу-федору. – Так и здесь. Чем больше книг читаешь, тем сильнее понимаешь, какие они одинаковые. Но я не о том. О чем я, доченька?
– О мещанской литературе, – сказала я. – Ты господ Золя и Достоевского туда же относишь?
– К сожалению, – сказал папа. – Они весьма одарены. Каждый по-своему. Но весьма. Но пишут примерно одно и то же.
– Как ты можешь сравнивать? – возразила я. – Они совсем непохожи. Достоевский – это бездна человеческой души. А Золя – это, скорее, приключение. Любовное приключение в большом городе.
– Бездны большого города и приключение человеческой души, – засмеялся папа. – Почитай с мое и увидишь, что это одно и то же. Но мы точно говорили о чем-то другом, Далли.
Он потер лоб. Мне показалось, что у него болит голова.
– О том, – сказала я, – что не надо задавать вопросы, если ничего не исправишь.
– Вот, – обрадовался папа, – совершенно верно!
– Но я все-так и хочу кое-что исправить, – сказала я, – и поэтому хочу задать тебе один вопрос.
– Слушаю тебя внимательно, – сказал папа.
– Я хочу уехать, – сказала я.
– Ты что? – сказал папа. – Тридцатого числа твой день рождения. Гости приглашены. Я заказал прекрасный обед. Хочешь, будет музыка? Какую музыку ты хочешь? Пианиста? Пианиста и скрипача? А, впрочем, пианист и скрипач в этом ресторане и так есть. Квартет! Или даже целый ансамбль! Хочешь?
– Папа! – я всплеснула руками. – Я с тобой серьезно говорю. Уехать не сейчас, не сию минуту и не в имение, а куда-нибудь далеко и надолго.
– В Вену? – спросил папа. – Или в Рим? В Рим я бы сам с удовольствием поехал. Возьмешь меня с собой? А в Вене, честное слово, нет ничего интересного.
– В Стокгольм, – сказала я. – Или в Нью-Йорк.
– Странный выбор, – сказал он.
Вот тут мне захотелось заплакать.
Кажется, он вообще не понимал, о чем я говорю. Ну и ладно. Я тоже ничего толком не понимаю и ни в чем окончательно не уверена. Больше того, мне даже кажется: я уверена в том, что ошибаюсь. Да, конечно, я ошибаюсь, и всё будет хорошо. О, эти страшные три слова! Как заклинание. Как шаманский бубен. Как самая главная ложь нашего времени. Что бы не случилось с тобой, с семьей, с народом, с империей – отовсюду несется это успокоительное: всё будет хорошо! Этому невозможно противиться. Это как наступление лета или зимы. Как наступление старости. Или как желание выйти замуж и рожать детей. Это наша проклятая природа, которая заставляет нас, против всякой очевидности, против всякой логики, против всех уроков истории, отчаянно дергать за веревку этого старого колокола и звонить: всё будет хорошо!
Да, разумеется.
Все будет хорошо. Когда-нибудь. Война не начнется. А если начнется, то потом она все равно кончится. Мы будем жить долго и счастливо. А если недолго, то попадем в рай. А если несчастливо, то просветлимся в лоне церкви. И все равно все будет хорошо. Когда-нибудь. В недалеком будущем. Там, за горизонтом. А может быть, здесь, за поворотом. Но пока, мои дорогие папа и мама, мне очень хочется спрятаться. Грета Мюллер беременна? Вот и отлично. Нам хватит денег воспитать малыша. Да и веселее, когда ребенок в доме.
Вот эта мысль – что нужно куда-то бежать – пришла ко мне так же внезапно, неожиданно и на несколько секунд, как только что мысль о том, что у меня может не хватить времени, чтобы все разузнать про мамину затею, или аферу, или что это там было, да и не наплевать ли, если надо бежать!
Я стояла посреди комнаты и думала, а папа смотрел на меня внимательно. Наверное, ему хотелось догадаться, почему я запнулась и что сейчас делается внутри меня. Я и сама толком не знала, но мне это очень не нравилось. Я не любила всякие предчувствия, неясные тревоги и прочую мистическую чепуху. Я гордилась тем, что со мной такого не бывает, что ко мне в голову эта ерунда не залетает. А вот, гляди ты, залетела. Мне стало очень неприятно. Но я же не виновата, в конце концов. Я же не из пальца все это высосала. Оно само.
– Уехать, – сказал папа, – это, в сущности, неплохая идея.
Кажется, я поняла маму.
Она говорила, что он всегда со всем соглашается и это совершенно невыносимо. Но ведь это всего лишь папа. Поэтому надо на это махнуть рукой и постараться снять какие-то пенки с его легкомысленного оппортунизма. Вот так. Расчетливо и цинично. А что поделаешь? Потому что я люблю… Неважно! Не скажу. Никому не скажу, что я люблю. И тем более кого я люблю. Но папа, даром что изображал из себя слабоумного, кажется, обо всем догадался.
– Неплохая идея, – сказал он. – Ехать можно в Рим. А уезжать, так уж верно, в Нью-Йорк. Или вообще в Буэнос-Айрес. Знаешь, что такое Буэнос-Айрес? – задал вопрос папа и сам на него ответил: – Славный ветерок!
Он зажмурился, будто бы стоя на теплом атлантическом берегу и ощущая нежный ветер с океана. Но потом нахмурился и серьезно спросил:
– А с кем ты собираешься уезжать? Неужели с этой рыжей девчонкой, которую ты попросила привезти тебе из имения? С девицей Мюллер? Я не собираюсь тебе ничего запрещать! – Он встал с дивана, на котором, откинувшись на подушки, расслабленно сидел до этой минуты. Встал, очень сухо и упруго подошел ко мне и заглянул в глаза. – Делай, что хочешь. Но зачем же ты мне сказала, что собираешься замуж? Делай что хочешь, но лгать зачем? Адальберта-Станислава Тальницки фон Мерзебург, зачем ты лжешь?