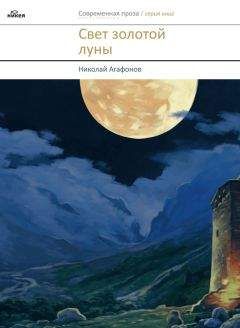– А ну, пошла отсель.
Женщина не уходила. Тогда к нему подоспел другой конвоир, и они вдвоем стали оттаскивать несчастную. Она закричала уже в голос:
– Сынок, родимый, где ты?
– Мама, мама! – раздался из колонны отчаянный крик.
На голос ринулись конвоиры и послышались удары.
Пять лет, проведенные в Соловецком лагере особого назначения, Анне представлялись страшным и неправдоподобным сном. Сном, который надо постараться забыть, как только проснулся. Исторгнуть из души, как будто и не было его вовсе. Время, несомненно, лечит, но его прошло еще слишком мало. Раны свежи. Боль памяти живет в душе, то утихая, то вдруг начиная терзать и мучить.
Пришла мать кричащего малыша и успокоила его.
Анна молилась: «Господи! Не дай всему этому повториться. Не дай!» Она желала только одного: скорее прибыть к месту своей ссылки, забиться в уголок и не высовываться. Пусть все забудут о ее существовании. «Господи! Мой Господи! Я всего лишь слабая женщина, и мне ничего не надо, кроме тихого и безмятежного жития».
Анна проснулась глубокой ночью от того, что состав резко дернулся, трогаясь с места. Миновали станцию, и поезд быстро набирал ход. Мертвенный лик луны подрагивал в такт колесного перестука на стыках рельсов. Эти звуки невольно напоминали Анне про другой поезд, тот, что увозил их с Акулиной на Соловки. Все арестантки лежали по трое в продолговатых деревянных клетях, составленных друг на друга в три яруса вдоль вагона. Поезд то шел, то вдруг останавливался, и тогда были слышны неспешные шаги конвоира. Толстые металлические прутья решеток тускло поблескивали в свете матовых фонарей. Анна располагалась между Акулиной и женщиной, прикрытой потертой кожаной курткой. Акулина спала беспокойно, постоянно вздрагивая во сне и что-то бормоча. Женщина лежала тихо, было не понять, спит она или нет. На вид ей лет тридцать – тридцать пять. «Она явно не из уголовной среды, – решила про себя Анна, – скорее всего каэрка». В клетях было невозможно сидеть, только лежать. Когда закончилась погрузка в вагоны и все трое оказались на одной полке, Анна приветливо назвала свое имя и представила Акулину. Женщина посмотрела на них с неприязнью. Так ничего и не ответив, она заняла место у решетки, подложила под голову свой вещмешок и прикрылась кожаной курткой. Поезд тронулся, и Акулина вскоре уснула. Анна лежала и читала про себя каноны, молитвы и псалмы – те, что помнила наизусть.
Женщина зашевелилась и повернулась на спину. Теперь Анна увидела, что ее соседка не спит.
– Простите, вы не знаете, куда нас везут? – робко спросила Анна.
– Знаю, – безразличным тоном ответила женщина, не поворачивая головы.
Вновь наступило молчание. Анна, не желая быть навязчивой, тоже молчала. Женщина приподнялась и стала шарить в вещмешке. Достав портсигар и вынув папиросу, прикурила, ловко чиркнув спичкой о потолок клети. Выпустив в решетку дым, спросила:
– Из церковников?
– Да, – живо ответила Анна, – мы были послушницами.
– Ну, теперь монастырь вам обеспечен. Сколько впаяли?
– Пять исправительных и пять ссылки.
– Это по-божески, – усмехнулась женщина, – мне вначале три, а потом еще семь добавили.
– За что?! – удивилась Анна.
– Было бы за что, расстреляли.
Женщина затушила папиросу о решетку и спрятала окурок в портсигар.
– Я Самойлова Вера. Вам фамилия ни о чем не говорит?
– Простите, нет, – с искренним сожалением призналась Анна.
– Ну да, я и забыла, вас мирские дела не интересуют. Самойлов – член ЦИК партии эсеров, мой муж. Его к стенке, а меня на три года в СЛОН. Потом решили, что этого мало, вот и прокатили в Москву для пересмотра дела.
– Простите, Вера, а что такое слон?
– Соловецкий лагерь особого назначения, вот что такое СЛОН.
– Так нас на Соловки везут? – как-то обрадованно прошептала Анна. – Там же святые мощи преподобных Зосимы и Савватия.
– Из нас там будут мощи делать, – зло усмехнулась Самойлова.
– А вы там были?
Женщина отвернулась, давая понять, что не желает более разговаривать.
Утром Анна поведала подруге про Соловки. Акулина не придала значения тому, что их везут в знаменитый монастырь:
– Пусть везут куда хотят.
В Кемском пересыльном пункте на Поповом острове полупьяные конвоиры долго развлекались муштрой с вновь прибывшими арестантами.
– Разберись по четыре, – истошно вопил старший надзиратель, с глумливой ухмылочкой обходя колонну женщин. – Партия, слушай мою команду: «Напрааа-во!.. Налее-во! Крууугом!» Ты что это… старая кошелка, на танцы сюда приехала? Поворачиваться не умеешь.
– У меня, гражданин начальник, нога распухла.
– Ты сейчас у меня вся распухнешь. Дрыну тебе в рот, чтоб голова не качалась. Напраааво! Запомните, здесь вам не Бутырская тюрьма, это не Таганка, это Со-ло-вец-кие ла-ге-ря о-со-бо-го на-зна-че-ния О…Г…П…У. Партия, слушай мою команду: «В пути следования сохранять гробовую тишину, по сторонам не оглядываться, друг друга не толкать, идти стройными рядами». Конвой, зарядить оружие!
Послышалось лязганье затворов винтовок. Снова закричал старший конвоир:
– Партия, предупреждаю: шаг вправо, шаг влево – применяем оружие без предупреждения. На месте шагом… марш!
Сотни пар ног стали отбивать шаг на мерзлой земле. Конвойный прислушивался, проходя вдоль рядов, потом скомандовал:
– Партия, вперед за конвоиром шагом… марш!
Прошли с километр или более, а затем последовала другая команда:
– Партия, бегом марш.
Обессиленные женщины с трудом побежали. Ряды расстроились. Последовала команда:
– Партия, стой! Выровняться в рядах. Я вас научу советскую власть уважать.
Конвоиры ходили вдоль рядов и били прикладами женщин, не успевших выровняться. Самойловой достался болезненный удар прикладом в бок от старшего конвоира. Она скрючилась от боли и зло выкрикнула:
– Звери! Палачи проклятые!
– Ах ты, контра недобитая. Ты на кого свое хайло раззявила?
К нему подскочили другие охранники, выволокли Самойлову из строя и стали избивать.
– Дайте я ее пристрелю за попытку к бегству, – суетился вокруг них один из конвоиров, передергивая затвор винтовки.
– Не надо, – урезонил его старший конвоир, – у меня эта сука на карантине сама повесится.
Когда партия прибыла в карантинные бараки и, пройдя еще многие унижения и издевательства, осталась на ночь в бараке, Самойлова сказала Анне:
– Мне теперь кирдык. Сама виновата, уж мне ли не знать, что эти цепные псы так болезненно самолюбивы. Печень у меня больная, а эта гадина прямо по ней прикладом. Ну да ладно, что ни получилось, а скулить поздно. Вы мне сейчас, девчонки, отходную отпойте. Жила не по-христиански, хотя бы помереть по-божески.
– Как это живьем хоронить, – укоризненно покачала головой Акулина, – вон чего придумали.
– Считайте, что я покойница, – усмехнулась недобро Самойлова, – просто захотелось молитву послушать. И чтобы непременно пропеть. Как вы, сможете?
– Мы вам что-нибудь другое споем, – предложила Анна, – сейчас пост Великий идет, мы из постовой службы.
Анна запела партию сопрано, а Акулина стала вторить ей альтом:
– «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя».
Пока они пели, прекратились ругань и свары уголовниц. Барак притих.
Самойлова сидела со странной улыбкой на лице, и слезы непрерывно струились из глаз бывшего члена террористической организации эсеров. Она не плакала на допросах в лубянских подвалах. Не плакала, когда ей сообщили о расстреле мужа. А сейчас она плакала и не замечала этого. Когда девушки закончили петь прокимен, она обняла их и поцеловала каждую.
– Мне понравились слова о том, что молитва должна исправиться. Мы молились не тем богам, вот наступила расплата.
Анна не стала поправлять Самойлову, которая неправильно поняла славянский глагол «да исправится». На самом деле он означал не исправление, а то, что молитва должна направиться к Богу. «Может быть, понятие бывшей эсерки намного глубже самого правильного перевода», – подумала Анна. На следующий день Самойлову куда-то увели, и больше ее девушки не видели.
Воспоминания Анны прервал военный патруль, проверяющий проездные документы. Пожилой хмурый военный долго рассматривал справки и направления НКВД в ссылку, а возвращая, вдруг глубоко вздохнул. Даже что-то наподобие дружеской улыбки промелькнуло на его лице.
– Ты, девонька, как прибудешь в Ташкент, не забудь отметиться в УНКВД, чтоб неприятностей у тебе не было. Ну, бывай, сердешная.
От этих добрых слов Анне стало тепло на душе, и мрачные воспоминания надолго оставили ее.
Глава 14. Почему так, Господи?
Прибыв в Ташкент, Анна сходила в управление НКВД и зарегистрировалась. Затем отправилась на поиски православного храма. Расспросы привели на русское кладбище, где находилась старинная часовня «Всех скорбящих радость». Анна долго молилась перед образом Божией Матери. Вечером, на богослужение, в часовню набилось много народа. Вокруг часовни тоже стояло много людей и молилось. Как узнала потом Анна, часовня была единственным действующим православным храмом, а в Ташкенте было много ссыльных и особенно духовенства. «Ну вот, – подумала с облегчением Анна, – здесь можно жить и молиться. Если б была рядом Акулина… Господи, Ты забрал у меня родную сестру, чтобы спасти мою душу, но для чего Ты, Господи, отнял у меня сестру духовную?»