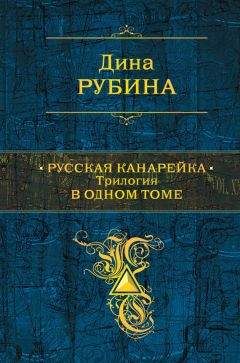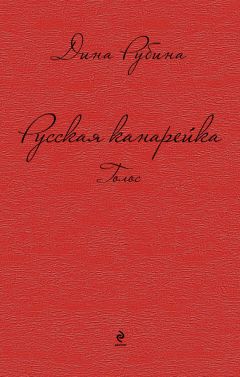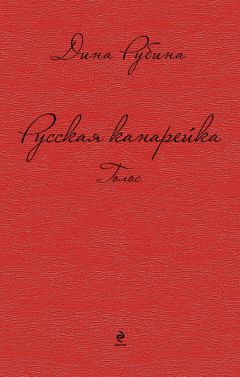Они опять прощались, стоя под распахнутой дверью. Высоко вокруг лампы вилась золотая мошкара. Илья, как в медленном сне, пытался вымолвить, произнести слово, реже которого он вряд ли что в жизни произносил. Наконец, выдохнул:
– Моя мать. Вы, случайно, не знаете о ней?
Морковный помолчал, рассматривая лицо Ильи, будто сверяя его черты с чертами кого-то забытого, отринутого, возможно, и преступного.
– А сам не знаешь? – спросил он.
– Нет.
– Ну, так тебе, значит, и не велено знать.
– Кем не велено? – оторопел Илья, думая, что старик имеет в виду бабушку Зинаиду Константиновну с ее строгостями, под старость уже смешными.
Но тот, очевидно, отнюдь не бабушку держал в уме. Молча поднял указательный палец трясущейся руки вровень с плечом и ткнул им в потолок. И палец этот ходил и ходил, точно отыскивал где-то там, вверху – возможно, в небе самом – единственную достойную цель. Потом опустил руку, помолчал и устало добавил:
– Я, мил ты мой, толком не скажу. Николай рассказывал, а я уж и не помню подробностей. Но тяжелая вышла история с этой ее дочерью.
– Чьей? Чьей дочерью? – чуть не крикнул Илья.
– Ну так… Зинаиды дочерью, чьей же еще, – недоуменно отозвался старик. – Татьяной ее звали… Вроде она с детства была такой… убегала и убегала…
Золотая мошкара вилась под притолокой вокруг лампы, добавляя к звездной россыпи блесткое канареечное мельтешение. Сердце Ильи тяжело бухало о ребра. Рука сжималась и разжималась, будто припоминая жесткую хватку бабушкиной ладони, все детство не отпускавшей руки внука.
– Николай говорил, это болезнь такая, вот забыл, как называется: человек бежит, бежит… сам не знает куда. Только на месте оставаться не может никак. И вот она, значит, девочка, ее дочь… убегала лет с двенадцати. Мать головой о стенку билась: сначала молила, потом под замок сажала, а после уже прямиком в милицию – с воем: помогите, мол. В какие-то закрытые интернаты девчонку определяли, так она – где обманом, где ловкостью – отовсюду выворачивалась и убегала. Ну, и… однажды явилась домой не одна, а… – Он взглянул на Илью и оборвал себя.
– Не одна, а со мной, – закончил тот. Повернулся и взбежал, раскачивая лестницу, в черное небо, пересыпанное огоньками невозмутимых звезд.
* * *
Года через полтора старик Морковный умер.
Выпустил утром птиц полетать, прилег на топчан и уснул под сенью желто-зеленых крыл – что может быть прекрасней? Нарядная, благостная смерть.
Оказалось, что он оставил бумагу, в которой ясным крупным почерком в одном предложении отписал Илье все свое птичье хозяйство вместе с «дубовым шкафом».
Гуля тогда уже была беременна и тяжело носила, вся опухла, но с веселым недоумением смотрела, как, пыхтя и шепотом матерясь, чтобы не услышала бабушка, два сослуживца Ильи помогали втаскивать в дом тяжелую резную громадину, от которой до сих пор еле слышно, перешибая запах птичьего корма и перьев, веяло тревожным церковным запахом – возможно, что и ладаном.
– Это алтарь? – спрашивала Гуля. – Это… купель? Паперть?
Так исповедальня проделала челночный рейс, вновь причалив на окраине апортовых садов. И встала у той же самой слепой безоконной стены, рядом с финиковой пальмой, выращенной из косточки.
В раннем детстве в ней любила прятаться дочь Ильи Айя, будто врожденной ее глухоты недостаточно было, чтобы отгородиться от мира, – Айя, кровиночка, вина и награда, его горькое счастье…
Но – нет, не о ней еще. Это так, к слову пришлось: просто Айя пряталась в исповедальне, как маленький Илюша когда-то прятался в стоймя стоявшем знаменитом плаще-шалаше – том самом, в котором влюбленный Зверолов спал зимой под окнами одной всеми забытой одесской балерины…
1
Да никакой балериной она не была! И не бывает балерин с такой грудью. Тоже мне хозяйство – балерина: полфунта жил на трудовых мослах. Нет, Эська заколачивала тапершей в синема, и заколачивала крепкими пальчиками, и востро глядела в ноты, читая с листа, а грудь у нее была… как две виноградные грозди («Песнь песней» в исполнении хора поклонников) – как виноградные грозди, созревшие свободно и сладко в ее неполные шестнадцать лет.
Спал ли некий Николай Константинович Каблуков под окнами ее дома? Вполне вероятно; да и кто бы пустил его спать в иное место? Много их околачивалось под ее окнами, любителей ноты переворачивать; возможно, кто и прилег с устатку.
Но в семье он запомнился: подаренный им кенарь по кличке Желтухин прожил ни много ни мало – да бывает ли такое?! – двадцать один год. Шутка ли? Двадцать один год, копеечка в копеечку, семья просыпалась под надрывную песенку «Стаканчики граненыя», высвистываемую Желтухиным с такими фиоритурами, что любой тенор позавидует. Не мудрено, что эта песенка въелась в быт, нравы и эпос данного семейства.
Кстати, о теноре.
Изрядные голосовые достоинства (помимо прочего музыкального блеска) были присущи всем мужчинам «Дома Этингера», как говаривал сам Большой Этингер – Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, но все тот же Этингер, хоть ты тресни. Так вот, немалые достоинства тенорового регистра демонстрировал и он сам, и его единственный, сгинувший в чекистском аду, но перед тем проклятый им сын Яша, и…
…и – забегая вперед – правнук его, тот последний по времени Этингер, «выблядок Этингер», в ком выдающиеся теноровые свойства воплотились в предельной мере: в гибком его, пленительном контратеноре, этом ангельском то ли стоне, то ли вое, то ли канареечной россыпи (столь странной в теле мужчины), – словом, тот «последний по времени Этингер», которому аплодирует публика в разных залах мира.
Вообще, если уж мы заговорили о музыке и о Доме Этингера, то надо бы захватить пригоршню времени поглубже и пошире, насколько хватит глаз; полновесной октавой взять, черпнуть глубоким ковшом, в который угодил бы даже и Соломон Этингер, тот николаевский солдат из кантонистов, трубач военного оркестра, запевала и буян, который всю жизнь утверждал, что его, десятилетнего мальца, пойманного «ловчиком» где-то в местечке под Вильно и увезенного в телеге с такими же перепуганными еврейскими мальчиками на Урал, в живодерню кантонистской рекрутчины, спас только заливистый дискант, впоследствии излившийся в тенор, странно высокий для человека столь могучей комплекции; спас, подкормил и в люди вывел: «Ох, кабы не мой соловей-соловей-пташечка!»
После двадцати пяти лет военной службы (напоследок он оттрубил и отпел Крымскую кампанию) Соломон осел в местечке под Полтавой и женился на дочери местного раввина. Хроменькая девушка была и болезная по женской части, но все ж раввинская дочь. Да и он, если трезво глянуть: солдат, конечно, хуже гоя, невежа в райских кущах святых наших книг, но все ж георгиевский кавалер, да и сорок-то целковиков кантонистской пенсии от царя-батюшки тоже, поди, на земле не валяются.
И вот, случается ж такое чудо – мощь чресел библейских старцев! – прожив в бездетном браке десять лет, уже в преклонном возрасте ухитрился родить со своей хромоножкой глазастого и ушастого сынка Герцэле и обучить его…
…и обучить его не только игре на нескольких инструментах, но и способности к выдающейся мимикрии – во всем, в том числе и в такой мелочи, как перемена места жительства, привычного окружения и имени.
– Имена – вздор, – говаривал отставной николаевский солдат. – Я тебе на свист отзовусь. Когда нас, пацанов-кантонистов, крестил полковой батюшка, – (в баню загнали, якобы мыться, а после окатили всех холодной водой из шаек), – мне имя дали, Никита Михайлов, и служил я под ним царю и России двадцать пять лет. «Отче наш» во сне отбарабаню. Ну так что ж? Какая в том беда Дому Этингера?
Стоит ли говорить, что сын его Герц – Гаврила – был, как и положено по закону, обрезан на восьмой день своей жизни, и, прислушиваясь к звенящему крику младенца, его папаша, запевала и буян, одобрительно заметил: тенор, мол. И ведь в точку попал.
Но место в оркестре знаменитого Оперного театра города Одессы Гаврила Оскарович получил в свое время вовсе не как тенор, а как – поклон папаше-кантонисту – незаурядный кларнетист.
К тому времени он был удачно женат на Доре Маранц, дочери известного в Одессе биржевого маклера Моисея Маранца, члена правления кредитного общества и ловкого хлебного спекулянта, которого не могла разорить даже постоянная карточная игра. В приданое дочери, к нескольким недурным семейным драгоценностям, размашистый и громогласный папаша Маранц присовокупил шестикомнатную квартиру в новом доме на углу Ришельевской и Большой Арнаутской – великолепную фасадную квартиру в бельэтаже, со всеми новомодными «штуковинами»: электрическими лампами, паровым, но и каминным отоплением, ванной и туалетной комнатами и чугунной печью в просторной кухне, из которой деревянная лесенка взбегала на антресоль, в комнатку для прислуги.