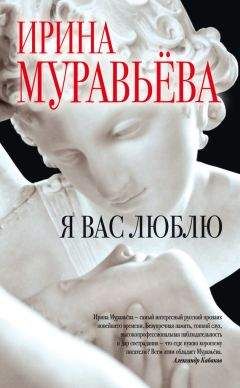Дорогие мои мама и папа, простите, если вам уже наскучило то, что я пишу. Эта ночь перевернула меня всего, и если мы когда-нибудь еще встретимся, вы, наверное, и не узнаете меня в том человеке, каким я стал теперь. Шаман принялся громко стучать колотушкой по своему бубну и все чаще и чаще вскрикивать. Глаза его при этом открылись, но я точно могу сказать, что он никого из нас в эти минуты не видел. Барченко шепнул мне, что шаман ищет путь в царство мертвых и в этот момент его собственная душа должна отделиться от тела. Потом он, усмехнувшись, добавил, что отделение души от тела всегда сопровождается невыносимой болью. Танец моего шамана стал стремительным; смотреть на то, как он высоко подпрыгивает, ненадолго зависая в воздухе, распластывается, прижав ухо к земле, было сначала почему-то мучительным для меня, но постепенно я сам отделился ото всего окружающего и начал погружаться в какие-то видения. Сначала я видел себя маленьким, лет шести, видел, как мы с мамой сидим под вишней, прислонившись затылками к стволу, и на нас густо падают мелкие белые цветы; потом я вдруг увидел, что мама встала и куда-то пошла. Я попытался вскочить и побежать за ней, но что-то не пускало меня. Я смотрел, как мама уходит все дальше и дальше, и когда она уже почти скрылась из вида, ее окружили очень милые и пушистые звери, похожие на собак, но яркого, золотого цвета, и я догадался, что это были лисы, и шкура одной из этих лис укутывает сейчас мое горло. Мне стало казаться, что теперь я остался один на всем свете, но страшно мне не было, и какая-то спокойная и благостная сила вдруг переполнила меня всего изнутри. Мама исчезла, от этих золотых животных, которые увели ее, остался легкий желтоватый туман в воздухе, а я чувствовал себя так, как будто наконец освободился от долгого страдания. Потом я услышал шум дождя по брезенту и увидел, что пью чай на дороге, спрятавшись под куском брезента и лошадиной попоной с еще одним офицером, имени которого уже не помню. Я сообразил, что это действительно так и было, мы с ним чудом уцелели в бою, который только что закончился, и стоны раненых, которых проносят мимо нас на носилках, и стоны тех, которых еще не подобрали, стоят в этом холодном сером воздухе. В этом воспоминании тоже было острое и сильное ощущение счастья. Я то проваливался внутрь этих своих видений, приносящих мне свет и освобождение, то снова видел похожего на дикую и косматую птицу человека, по желто-коричневому лицу которого, завешенному длинными белыми нитями бисера, струился пот. Потом я опять крепко-крепко заснул. Проснулся я, как сказал мне Алексей Валерьянович, через двое суток.
Я написал вам обо всем этом так подробно вот почему: даже если меня выпустят на свободу, даже если мне сохранят жизнь, я постараюсь никогда не возвращаться обратно в тот мир, про который я теперь понял самое главное: жить в этом мире я не смогу. И все так устроено в нем, что…
На этом слове письмо Василия Веденяпина обрывалось. Александр Сергеевич закрыл лицо руками и сидел молча, низко опустив голову. Наконец Нина не выдержала:
– Это она передала тебе?
– Она вчера принесла мне его в больницу. Вася не успел даже дописать и передал Барченко, а тот отдал ее сестре, – негромко ответил он из-под ладоней.
– Я не спрашиваю тебя об этом! Какое мне дело, в больницу или не в больницу?
Александр Сергеевич потер лоб.
– Зачем ты кричишь?
– Я уеду, – тихо сказала Нина. – Уеду к мальчику в этот порт… как он назывался раньше? Романовна-Мурманске. И буду там с ним.
– Ты не доедешь до этого порта, – усмехнулся Александр Сергеевич. – Если тебя не выкинут по дороге с поезда, ты подцепишь тиф и умрешь в вагоне на полу. Но дело не в этом. Ты что, разве не поняла?
– Какая там власть-то? – спросила она. – Там красные?
– Не знаю. Газеты всё врут.
– Чего же я все-таки не поняла?
Муж странно взглянул на нее:
– Нина, он попрощался с нами. Ты сон его ведь прочитала?
– Ты что говоришь! Как ты смеешь?!
Красные от бессонницы глаза Александра Сергеевича увлажнились. Он широко перекрестился.
– Господи, помоги ему!
– Я ненавижу тебя! – закричала Нина. – Ненавижу! Я каждую ночь мечтаю, что он возвращается к нам! Я держу его за руку и плачу от радости. А ты говоришь, чтобы Господь помог ему освободиться от нас! Ото всего, что было нашей жизнью! Да он же погибнет без матери!
– Без матери он не погибнет, – пробормотал Александр Сергеевич. – Без Бога погибнет.
Она вскочила и затрясла кулаками перед его лицом:
– Молчи, ты, чудовище! Я отмолю! Ведь это же я отмолила, ты помнишь? Когда он сидел на Лубянке!
– Пойдем выпьем кофе, – вдруг сказал Александр Сергеевич. – У нас желудевый остался?
Она тоже стихла и наклонила голову.
– Остался.
– Ты кашляла ночью. Знобило тебя?
– Меня каждый вечер знобит.
– Дай-ка я легкие твои послушаю.
– Зачем же их слушать? Тебе все равно без меня будет лучше.
– Ерунды не говори! – оборвал ее Александр Сергеевич. – Пойду затоплю. Завтра обещали еще дров привезти, нужно протопить как следует…
Нина пошла за ним, задевая за мебель концом старого пледа, наброшенного на плечи. Александр Сергеевич приостановился, погладил этот плед, потом провел пальцами по ее переносице, бровям, лбу…
– Да, выпало нам! – Он вздохнул. – Чего уж теперь-то считаться? Бедняжечка…
Нина закашлялась.
– Ну вот: пожалел все-таки! – еле выговорила она сквозь кашель. – А то ведь: чужой… – И осторожно погладила его по волосам. – Седой стал… Я ночью просыпаюсь, Саша, и никого рядом! Пусто, черно, страшно. Как в могиле… Вспомню про сына – ужасом обдает. Про тебя подумаю – стыдом… Зачем я живу? Для кого? Для чего?
– А я? – Он коснулся губами ее лба.
– Отпусти меня!
Александр Сергеевич насторожился:
– Я тебя уже отпустил один раз.
– Нет, к Васе меня отпусти. Как сказано, помнишь? «Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко». У меня давно душа голодает…
Хорошо было тем детям, к которым на елку, например, или на день рождения приходили исторические деятели. Такой праздник уж точно не выветривается из памяти! Ну, кто из выросших в Лесной школе № 61 забудет, как ночью, в такую пургу, что даже ресницы болели от ветра и не было видно ни зги – хоть смотри, а хоть не смотри, все равно не усмотришь! – к ним в комнату, где было очень тепло, и елка горела, и пахло свечами, вошел Дед Мороз? Кто был этим Морозом? Ау, Бонч-Бруевич, ау! Что не отзываешься? Спрятался, бедный.
Началась эта новогодняя сказка с того, что детишки стали беспризорниками. И, ставши такими, попали в приют. В приюте часто бывали гости из иностранных стран и даже писатели, много писателей. Они ведь по-своему тоже детишки. Приютским объяснили, как отвечать, если иностранные гости будут интересоваться их семьями, и девочка Катя однажды довела до слез впечатлительного драматурга по имени Бернард, поведав ему, драматургу, про то, как Катин папаня взял Зимний.
Случалось, что гости оставались и на обед. Тогда Аграфена Матвеевна, женщина очень полная, с косой, перекинутой через пышную грудь, на которой горела пятиконечная красная звезда, подаренная Аграфене Матвеевне другом ее детства Климом Ворошиловым, плавно, показывая ямочки на своих румяных локтях, вносила поднос с чисто русским борщом, и гости, тотчас оборвав разговор (включая Бернарда), садились покушать.
Владимир Ильич Ленин хотел, чтобы его, человека совсем не старого, но облысевшего от лечения бытового сифилиса, подхваченного им на одной из маевок, куда пропускали Бог знает кого, включая шпану и любых провокаторов, – хотел он всем детям планеты быть дедушкой. Трудно сейчас понять, зачем ему этого так уж хотелось, но с фактами ведь не поспоришь.
Надежда Константиновна Крупская капризничала и отнюдь не желала становиться бабушкой. Она была верной соратницей дедушки. И другом его по борьбе, многократным. Они жили в Шушенском, там и боролись. А когда победили и переехали в шестикомнатную, очень скромную кремлевскую квартиру, куда, опровергая слухи о том, что Ленин питался одним молоком, а Крупская – хлебом, везли им и кур, и икру, и балык, и разные овощи, и ананасы; когда они в эту квартиру переехали, наладили быт, ввели красный террор – короче, решили все эти вопросы, – тогда они сели в машину втроем (еще и Маняша, сестричка, пристала: возьми да возьми!) и поехали к детям.
Бонч-Бруевич, который сейчас спрятался и не отзывается (как будто бы нужно стесняться того, что он хоть однажды сказал все, как было!), уверен, что Ленин любил поиграть. С игры-то, мол, и началось. Что дети, увидев вошедших к ним в дом, ужасно смутились. Но Ленин, привычный к смущенью людей, схватил сразу Катю, отер ей глаза и тут же сказал, что она будет мышь. Потом подобрал Кате кошку в лице большого и очень неловкого Пети, потом велел всем разделиться вот так: один, значит, кот, а другой, значит, мышь. Ты, кошка, лови себе мышку и ешь. А ты убегай и спасай свою шкуру.