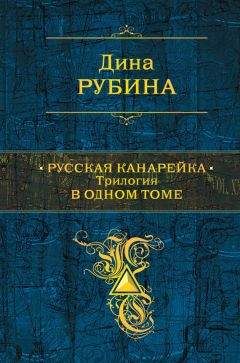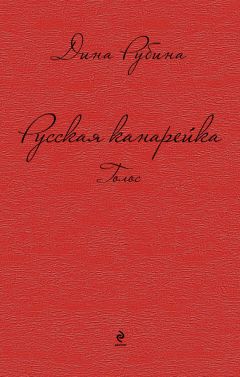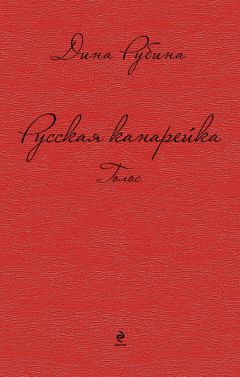Леон уже получил первую повестку в армию и, когда Сёмка поинтересовался, намерен ли он пополнить ряды музыкантов нашего почтенного армейского ансамбля, скривился и что-то неразборчиво фыркнул, дав понять, что презирает подобное будущее. В анкете предпочтений он отметил самые тяжелые боевые части, включая «мистаарвим» – если уж бог дал такую рожу и такое произношение, субхана раббийаль-азим… Странно, думал он, – а я ведь так на Барышню похож. Вспомнил ее коронное: «Какая в том беда Дому Этингера!» – и выкинул все дурацкие мысли из головы.
Сёмка еще посоветовал «понырять» – мол, это отлично развивает дыхалку, а дыхалка – она в любой ситуации пригодится. Дал телефон своего друга, инструктора в эйлатском яхт-клубе.
– Только не дайвинг, – предупредил. – Там ты нагружен снаряжением, баллонами с воздухом – самосвал под водой… Проси его поучить задержке дыхания. Это фридайвинг, свободное погружение: маска, ласты и ты сам наедине со своим телом и всем, что там, под водой, встретишь…
И целый год дважды в месяц Леон добирался на попутках в Эйлат, а там до одурения нырял под приглядом Эли Волосатого – такая уж была фамилия у этого гладкого, шоколадного от загара гиганта с литыми мускулами человека-амфибии.
Он делал успехи, Леон, – это было необходимо ему позарез, чтобы справиться с собой, своим плюгавым ростом, своей тонкой костью, своим проклятым писклявым голосом детсадовского солиста.
И то ли природный объем его легких был отменным, то ли духовой инструмент сделал свое дело, но очень скоро он научился задерживать дыхание на полторы, на две минуты, с каждой тренировкой добавляя еще по две-три-пять секунд к личному рекорду, под водой зачарованно глядя на стайки жемчужных пузырьков, вылетающих из губ…
В эти месяцы в его сны проникла морская глубина: медленные длинные караваны водорослей, бесконечные змеистые их волны, влекомые подводным течением. Величаво развернулись причудливые за́мки кораллов, сиренево-оранжевые, губчатые, пещеристые, из укромных впадинок взмывали текучие стада серебристых, розово-черных полосатых рыб. Во сне пришла такая невесомая свобода тела, такая светлая радость парения, каких на земле он не чувствовал никогда.
Ну почему же – не чувствовал…
Лет через пятнадцать его коронные задержки-ферматы из репертуара легендарных кастратов, идущие не от дирижера к солисту, а наоборот, когда дирижер ловит желание певца продлить ноту и порой до обморока держит для него гармонию в оркестре, жадно ловя переход на коду, – будут потрясать и публику, и музыкальных критиков. После премьеры «Семирамиды» Николы Порпоры в парижской «Опера Бастий», где он пел арию Миртео и почти на две минуты застопорил оркестр на невероятном, текучем, искрящемся алмазными всполохами си, а на исходе выплеснул в зал целую стаю серебристых рыбок движением груди и обеих рук, и зал «О́пера Бастий» загрохотал и смял все течение спектакля, и долго раскачивался и выл свое «браво!!!», а грудь Леона ходила счастливым поршнем, некий молодой и остроумный критик написал в «Ле Монд де ля Мюзик», еженедельном приложении к «Ле Монд», весьма лестную рецензию, припомнив там «затейников-кастратов, вроде Фаринелли, Виченци, Ауэрбаха или Валларди, которые подобными задержаниями на одной ноте, причем не на самой высокой, а чуть выше рабочей середины (прохвосты!), убивали публику наповал, доводя впечатлительных дам до нервного потрясения и удушья. Ведь не секрет, – писал он, – что некоторые экзальтированные слушательницы и слушатели специально задерживали дыхание на подобных сверхдлинных ферматах вместе с солистом. В театре Генделя в Лондоне случались регулярные обмороки именно по этой самой причине – для чего всегда наготове был лакей со специальной нюхательной солью в кисете: он ходил по рядам и приводил в чувство самоудавленников от оперы… Леон Этингер не позволяет себе жульничать на удобных “вышесредних” нотах, он “гвоздит” в высокой тесситуре, на пределе диапазона, и это, конечно, связки и мастерство, но еще и чудо невероятно развитых и умело расходуемых легких. Это не просто “вокально-техническое сочетание”, это настоящее психотронное оружие! Не забывайте, что со времен написания барочной музыки “камертон” подскочил вверх, так что си того периода относительно нашего с вами си выглядит бедным родственником…»
И далее автор рецензии остроумно замечал, что «при подобном исполнении обмороки в зале обеспечены, а вот летальные исходы – это уж на совести блистательного артиста. Не скрою, – так он заканчивал статью, – я бы с удовольствием отправил к праотцам столь изысканным способом пару-тройку ныне здравствующих политиков».
* * *
А Эли Волосатый к тому же оказался земляком-одесситом, фанатом парусных лодок, и сам владел подержанным швертботом, который беспрерывно чинил и латал. Энтузиаст морского спорта, он был главным вдохновителем и организатором ежегодных регат юниоров в Эйлатском заливе. Леон сначала опасался выходить с ним в море – не потому, что боялся глубокой воды, просто на волнах, даже слабых, его укачивало. Но в один прекрасный день, поддавшись на уговоры Эли («Эх ты, Одесса-мама!»), переступив борт и прыгнув в лодку, уже не упускал возможности еще и еще раз это испытать: соленый мокрый ветер, солнечные жгуты на плечах, шипучие брызги в лицо и горящие, вспухшие от напряжения ладони…
– Это тебе не лыжи, – говорил Эли. – На лыжи прыгнул и помчался. Здесь ты физически устаешь, устаешь как мужчина: узлы вязать, поднимать и настраивать паруса, все учитывать: состояние ветра, как вошел в поворот. Ты должен владеть своим телом и мозгами, понимаешь?
В июне Леон участвовал в своей первой регате юниоров и занял третье место. Эли утверждал, что это прорыв, а для первой регаты (она проходила с хорошей, но короткой волной) – вообще отлично.
Но Леону всего было мало, он всюду жаждал реванша, признания профессионалов, первого места во всем – словно та, годовой давности драка с Меиром, вернее, его, Леона, гибель в глазах Габриэлы, превратили все его существо в некий смертоносный снаряд, выпущенный на орбиту длиною в целую молодость.
5
Подслеповатые пуленепробиваемые окошки, в них – отверстия для стрельбы. Бронированная приземистая машина, в солдатском просторечии – «рыцарь». Обычное средство доставки бойцов к месту проведения операции. Такой вот катафалк, благослови его Аллах; прибежище вооруженных до зубов пилигримов.
Все в полном снаряжении: бронежилеты застегнуты, ремешки касок подтянуты, винтовки заряжены и под рукой. Все остальное – гранаты, патроны, нож, пакет первой помощи, рация – расфасовано по кармашкам «броника». Не балетная пачка этот бронежилет. И даже не смокинг.
Трясемся по колдобинам, умявшись на длинных лавках вдоль стен, и кое-кто по пути умудряется тихо подремывать, хотя дороги здесь – как Стешина стиральная доска, и той заднице, что не поместилась на лавке и трясется на ящике с боеприпасами, можно посочувствовать. В данном случае это задница Леона.
В кабине трое: водитель, командир и сержант-навигатор с целым хозяйством на коленях – карты, аэрофото… Но это на всякий случай; все и так вызубрено наизусть: «Район операции каждый из вас должен знать лучше, чем содержимое собственных трусов!»
Вот распахивается задняя дверь, и ты вываливаешься во тьму, не на страницы «Тысячи и одной ночи» – хотя острый новорожденный месяц на небе упал на спину и хочется почесать ему животик, – а в полный сказочных звезд арабский город Шхем, кузницу местных талантов.
– Квартал нагревается! Квартал нагревается, торопитесь, ребята!
В рации – напряженный голос полковника. Он в машине командования, откуда наблюдает за операцией. Если «работа» пойдет не по плану, будут вызваны прикрытие, огневая поддержка или медики. А операция длится долго, уже минут пятнадцать. Отгремели шоковые гранаты, дверь дома выбита, «действующее» звено ворвалось внутрь и прочесывает комнату за комнатой. Дом «запечатан» со всех сторон: Леон и Туба держат на мушке дверь и окна, Зимри прикрывает тыл. Там, внутри, Шаули с ребятами, ищут добычу – ту, что разведка преподнесла им на блюдечке. А Шаули – детина не маленький, Леона всегда мучит мысль, что тот – отличная мишень. Впрочем, сейчас никаких мыслей, а только – ночь, как лезвие ножа, винтовка и «акила», прибор ночного видения. И минуты, что тянутся невыносимо долго.
Здесь каждый дом буквально нафарширован оружием, а потому в любую секунду жди пения металлических пчелок или треска автоматных очередей. И спящий район – окрестные улочки Шхема, на одной из которых в доме родственников засела гадюка из ХАМАСа, – действительно постепенно просыпается. Нет, никто не зажигает света в домах, не слышно криков. Просто кожей, обостренным нюхом ты ощущаешь близость смертельного жала. Кожей чувствуешь температуру ночного, закипающего ненавистью воздуха: он и вправду нагревается…