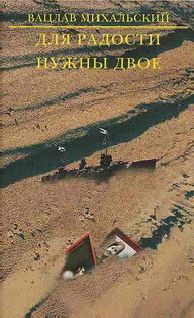– И я себя когда женой чувствую, когда сестрой, а иногда кажется, что ты мой маленький сыночек!
Адам просиял, и его эмалево-синие глаза налились такой нежностью и такой печалью, что Сашеньке сделалось страшно. Она прижалась к нему и заплакала.
– Ты чего?
– Не знаю. Страшно…
– Чего тебе страшно? Я рядом, и посмотри, какой денек – сколько света, сколько жизни! Успокойся, все будет хорошо. Это у тебя сама знаешь почему, это нормальное явление. Восемь месяцев пролетят… ой-ё-ёй! И ты будешь мама! А я буду папа! Вот уж повеселимся! Ай да Грищук, в жизни не думал, что вот так женюсь!
– Ты сожалеешь? – притворно обиделась Сашенька.
– Ну что ты, глупенькая! Просто такое счастье мне не по чину.
– По чину, по чину! А сын родится, тебя за это повысят в должности!
– Думаешь, сын будет?
– Сын. Обязательно сын!
– Я и против дочери ничего не имею!
– Ну имеешь, не имеешь, а первым у нас родится сын… А ты своим пишешь письма?
– Редко. Я лентяй. Вот, что женился, конечно, надо написать. Мама будет рада, да и отец… Туда долго идут письма – кружным путем, все ведь перерезано немцами, все лучшие дороги. Кончится война, мы первым делом съездим к твоей маме, а потом к моей, хорошо?
– Договорились! А сынок тоже будет с нами воевать до победы? – улыбаясь, спросила Сашенька.
– Конечно, я глупости говорю. Ты ведь уедешь рожать и, скорее всего, там и останешься. Ты будешь ждать…
Некоторое время они шли молча. Летающая паутинка теперь прилипла к щеке Адама. Он снял ее и не удержался, вспомнил стихи Тютчева:
И паутинки тонкий волос
Блестел на праздной борозде.
Паутина действительно блестела по всему полю, только вот борозд не было, да и откуда им взяться? Война пашет землю снарядами, вздымает бомбами, рвет на части минами, дырявит пулями – дрянью пашет, дрянью и засевает, придет черед и этому полю…
– Нам с мамой обещали комнату в настоящем большом доме, а пока мы живем в пристройке к кочегарке, – вдруг сказала Сашенька, – а будет сын, конечно, дадут, точно дадут!
– Как это в пристройке? – переспросил Адам, родители которого жили хотя и в небольшом городе, но в начальственном доме со всеми удобствами.
– Ой! – всплеснула руками Сашенька. – И ничего я тебе еще не рассказывала, а кажется, знакомы сто лет!
– Двести! – засмеялся Адам, показывая необыкновенно белые, ровные зубы. Даже когда он смеялся, его синие глаза оставались грустными, скорее даже печальными, они жили как бы отдельной, своей жизнью.
Перехватив взгляд Адама, Сашенька подумала ни с того ни с сего, что, конечно, хорошо поступил Раевский, что не сделал ее своей любовницей. А ведь мог… Конечно, мог. Только теперь она поняла, что ее любовь к Раевскому была как увертюра к опере, еще и не любовь, а девичья влюбленность – первая, неразменная, платоническая, что совсем не означает: пустая. Нет, не пустая, но как бы оторванная от реальной жизни, как небо от горизонта бывает оторвано первой полоской рассвета, когда еще не показалось само солнце и не расставило все по местам «при беспристрастном свете дня».
Сашенька была благодарна Адаму: его, профессорского сынка, совершенно искренне не смутило то, что ее мать долгие годы работала дворничихой, а теперь рядовая прачка в госпитале. Трудно сказать почему, но, помнится, когда зашла об этом речь, он посмотрел на нее внимательно и произнес:
– Знаешь, если бы моего отца расстреляли, то моя мама, наверное, тоже была бы уборщицей.
Сашенька так сильно вздрогнула всем телом, что ее аж качнуло как от выстрела в упор.
– Ты что так перепугалась? – настороженно спросил Адам.
Да, она перепугалась. Ей вдруг почудилось, что она проболталась ему насчет своего отца адмирала. Может быть, ночью, в пылу объятий и откровений? Или когда?
– Что-то я дергаюсь ни с того ни с сего, – как можно равнодушнее сказала Сашенька, – что-то со мной нервическое. – И она попыталась засмеяться. Получилось не очень искренне, и эта первая фальшь льдинкой проскользнула между ними и на какой-то миг как бы оторвала, отодвинула их души друг от друга.
– Ладно, – сказал Адам, – не буду допытываться. Всему свое время, захочешь – скажешь.
– Конечно, – согласилась Сашенька, благодарно прильнув к нему. – Боже, какой ты умный…
– Еще бы, – лукаво ухмыльнулся Адам, – умней меня только поп – толоконный лоб! Я – человек, разумеется, не глупый, но весьма заурядный, ты это учти на будущее.
– Учту… Господи, когда кончится эта проклятая война, какая замечательная начнется у нас жизнь!
– Не думаю. Вообрази, сколько будет разрухи, вдов, сирот. И опять эти болотные хмыри повылезают из своих тыловых нор, так что война еще покажется волей вольною. А народ наш и без того надорвался. Война нас как раз поддержит, возвысит – и в собственных глазах, и перед всем миром. Войну мы выиграем. Но народу не станет легче, чем было до войны. Если, конечно, не переменится власть, а она не переменится еще долго.
– Куда ж ей меняться?
– Куда? А откуда пришли, туда и вернемся, только без царя…
– Без царя в голове? – ехидно переспросила Сашенька.
– Может, и так, кто знает…
– Странно, как странно, – задумчиво сказала Сашенька и первый раз пошла ва-банк: – Вы будто сговорились с моей мамой…
– Значит, она умная женщина. В таком случае я трижды рад, что женился на тебе. А я, признаться, все это говорю со слов отца, он у меня стратег, до сих пор рассуждает, что было бы, если бы… Если бы Брусилова не бросили, если бы вместо Керенского был другой и т. д., и т. п. Но в нашу победу верит свято, с первого дня войны… Он мне еще двадцать второго июня сказал: «Куда они опять полезли? Их же Бисмарк специально предупреждал: Германии нельзя воевать с Россией!» – Адам говорил все это вроде бы весело, а в глазах его опять были только печаль и отрешенность от мира.
– Какие у тебя красивые, какие странные глаза, Адась!
– Я знаю. Моя мама тоже всегда говорила: «В твоих глазах вся печаль многострадальной Польши и вся ваша пшецкая[16] спесь».
– Спесь?
– Да, я спесивый.
– Нет, ты гордый.
– Спесивый, спесивый, я за это сам себя ненавижу! Иной раз на ровном месте надуюсь, как индюк!
– Что-то не замечала.
– Случая не было… А ты умеешь готовить? – спросил вдруг Адам.
– Думаю, что умею, – горделиво ответила Сашенька. – Во всяком случае, я сызмальства училась у мамы, а моя мамочка готовит изумительно! У нее такие борщи…
– Очень надеюсь их отведать. А моя мама говорит, что женщины, которые не умеют готовить и вести дом, – это не женщины, а лахудры!
– Да ты что?! – Сашенька расхохоталась от всей души. – И моя мама точно так говорит. Лахудра – ее любимое словечко.
– Значит, старушкам будет о чем посудачить. Ничто так не сближает, как единство суждений о недостатках других людей.
– А ты у меня философ, прямо Монтень!
– Мадам, вы и Монтеня читали? Вот это фрукт… Ну и медсестричку прислали к нам из Москвы!
– Это все случайно, – смутилась Сашенька. – Однажды на нашу помойку во дворе выбросили из бывшей профессорской квартиры библиотеку – новые жильцы выбросили. Я еще совсем маленькая была, во втором классе. А мы с мамой не поленились и перетаскали все книжки к себе в пристройку и сложили в огромный деревянный ларь… Там раньше ведра, метлы, тряпки лежали, а в общем он пустовал. И потом я всю жизнь таскала оттуда книжечки и глотала их одну за другой. А Монтень пишет очень понятно, так что чего ты удивляешься? Он просто пишет… И медсестричка поймет…
– Еще бы: «Кто ясно мыслит – ясно излагает». Ты моя родная душа! – Он поцеловал ее в висок.
– А ты моя! – откликнулась Сашенька. – Я верю в бессмертие души, а ты?
– Хотелось бы, – сказал Адам, – сейчас, на войне, как никогда хотелось бы… Лет с тринадцати до пятнадцати я очень остро переживал, что умру, мне это казалось ужасным, а жизнь бессмысленной, оскорбительной суетой. Помню, учитель читает мне очередную мораль, а я смотрю на него и думаю: «Так, дорогой, и что будет с твоим черепом уже через неделю после того, как тебя закопают, а?» В чем он мог меня убедить, бедный учитель? Чем пронять? А потом, в юности, что-то в моей душе сдвинулось, закрылась какая-то заслонка и перестал тянуть этот леденящий холодок неминуемой смерти. С каждым днем жизнь набирала обороты, и как-то само собой меня затягивало в реальность бытия. А в мединституте, и не где-нибудь, а на занятиях в морге, я окончательно поверил в бессмертие души. «Нет! – сказал я себе. – Нет, Адам, не может быть, что смердящий тлен и вот это все, плавающее в формалине, вот эти бурые куски, и кости, и сухожилия, – вот это все и есть единственное, что останется от человека. Нет! Нет! И нет!» Так я решил и так считаю до сих пор. Я взял на веру! Да… С тех пор мне стало гораздо легче жить, забрезжил какой-то смысл всего сущего. Это никто не проверил. Никто не вернулся оттуда? Ну и что… Но ведь никто и не опротестовал, правда?