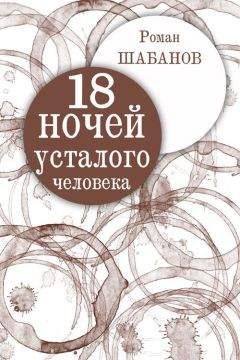Он играл на банджо, а мы пили кофе. Всю ночь мы пили чай, а под утро сделали кофе. Она не хотела спать, как и я. Мне казалось, что мы только начинаем говорить. Ее звали Катя. Об этом я не помнил, пока не пришел Сергей. Как странно, когда мы были с ней вдвоем, она была для меня девушкой без имени. Появляется посторонний, третий в данном случае и она обретает имя. Что изменится, если я увижу ее в обществе. Это так похоже на актеров. Когда они дома, то они спокойны и походят на людей. Но стоит им выйти в общество, это безумные паяцы. С ней конечно другое дело. Все же в моей голове. Просто я очень много актеров перевидал. Не только в театре.
Потом я проводил ее и уснул на скамейке. Она поднялась домой, и обещала помахать мне из окна. Я сел на скамейку около детской площадки и ждал, когда она выглянет. Я не дождался и уснул. Да в таком приятном ожидании я увидел сон. Маленький и воздушный. Что меня разбудило? Солнце с первым детем, который стал скрипеть качелями, пока мама выгоняла машину со стоянки. Я улыбнулся ему, он на меня посмотрел испуганно, Подъехала машина, я увидел в ней женщину, так похожую на мою жену. Только тогда я понял, что не вспоминал о ней уже двое суток.
Так хочется повеситься на дереве. На любой из этих веток. Главное, чтобы она меня выдержала. Я не тяжелый. Похудел здесь примерно на пять килограмм. Или того больше. Порой сознаешь, что ничего не весишь. Как будто ты пустой, только кожа, а внутри один воздух, который время от времени спускается. Чувствуешь себя проколотой шиной. Шиной, которая мечтает висеть на дереве, одного роста со зданием, в котором я сейчас нахожусь.
Они разговаривали под окном и не уходили. Я сидел в темноте и эту ночь провел в театре. У меня болело сердце. Сжимало так, оно стало тяжелым. Тело внутри воздух и только сердце, очень тяжелое, словно все внутренности спрессовались и забились в этот орган размером с кулак.
Утром я ушел… принял душ… долго стоял под горячей водой – только горячая вода мне помогает (от холодной начинаются судороги)… пил кофе, все не мог напиться, его было мало… горький, без сахара, без сливок… если перемотать назад, то все происходило примерно так.
Середина спектакля. Сцена терзания главного героя. Он не может уснуть и в порыве своего безумия вырезает себе глаз. Объясняет он это тем, что не может видеть половину того, что создано тем богом, которому все поклоняются. Актер, который был назначен на эту роль – пожилой, но очень хороший актер (по словам местной публики и СМИ) стал со мной спорить. Как он должен это сделать. Мне хотелось, чтобы он сделал это при полном свете, повернувшись лицом к зрителю. Чтобы они это увидели, чтобы им стало противно, чтобы они почувствовали на себе, каково это вырезать себе глаз, чтобы хотя бы один не выдержал и крикнул «хватит», другой закрыл глаза, а третий выбежал из зала. Это было нужно. Нельзя было делать это под громкую музыку, в темноте. Все должно происходить в полной тиши и только его дыхание, тяжелое, прерывистое, неуверенное в себе, и крик.
Актер совершенно не хотел меня слушать. Оказывается, что он уже придумал для себя выход, положение на сцене, куда нужно поставить свет, в общем от и до сцена была разведена им. Я сказал «спасибо», но делать все нужно иначе. Вот тут начались проблемы. Актер, который видимо мечтал стать режиссером, стал говорить так много – о системе, о разных школах и театрах, завершив свое выступление о кассовых сборах, которые театр собирает в основном благодаря ему. У актера почти не было передних зубов, он хромал и меня поразила та публика, которая ходит в театр только исключительно для того, чтобы узреть этого индивидуума. Как хочется увидеть эту публику. Она мне тоже показалась хромой и невежественной.
Он стал на меня кричать. Изо рта шел неприятный запах, летели слюни, слова, от которых несло сыростью, но я терпел. Мне хотелось узнать, чем все это может кончится. Старик остановился, схватился за сердце, выругался, и отправился в гримерку. Через пятнадцать минут в театре все знали, что я довел до сердечного приступа ведущего актера труппы.
Вокруг был гул. Я шел по коридору, проходил швейный цех, передо мной закрыли дверь, посмотрев так, словно я – враг народа, костюмерку и Лиза, приятная девушка, так сладко говорившая о шмотках, отвернулась и утонула в кашемире, который висел на высоких стойках.
Прошел монтировщик и с сочувствием посмотрел на меня. Я вопросительно посмотрел на него, он же покачал головой, мол, сами знаете, вы же кашу заварили. Была бы это каша, а то вода с хлебом.
Поднялся по винтовой лестнице, чтобы обсудить с завпостом половик, услышал от него нарекания. Что я не имею право повышать голос на человека, который играл Мольера. Вот так новость. Да кто он мне, чтобы все это говорить. При чем тут Мольер? Когда это было? Как это может отразиться на сегодняшнем спектакле? Для меня показательна сегодняшняя репетиция. Все другие, которые были вчера, со мной и без меня, не так важны. Я их уже не помню. За них сегодня я хвалить не буду. Я готов выказывать лестные слова, но только за увиденное сейчас, сегодня. Вчера – нет, есть – сейчас, то, что происходит в сей момент. А он не унимается. Он играл Дон Кихота. Это невозможно слушать. Стоит перед тобой человек и говорит, говорит, и никуда не уйдешь от этих слов. Они какие-то другие. Не тот русский язык, к которому я привык. Это что-то другое. Но приходится внимать. Я сказал «хватит». Он «как знаешь».
Спустился в режиссерскую, там несколько актеров пьют кофе. В этом театре особенная режиссерская. Она не только для режиссера. Там невозможно уединиться, подумать, там всегда собирается народ. От актеров до уборщиц. Сидят, пьют кофе, разговаривают. На стене висит объявление «Господа, ешкин кот! Если вы пьете кофе, то хотя бы мойте чашки. Ешкин кот!»
Поднялся еще на один этаж. Здесь обвалился потолок год назад. Видны разводы, Старое здание. Когда-нибудь все будут погребены под ним. Не это, так следующее поколение актеров. Нет, та нельзя думать. Я слишком зол. Сперва на одного, сейчас уже на всех. Я уже стал забывать, что еще вчера аплодировал актерам, а сегодня они отрабатывают свое красноречие на мне.
У меня развиваются комплексы. Те, про которые я знал, но стал забывать. Моя неполноценность налицо. Например, я вспомнил, что теряюсь в обществе количеством более трех человек. Дрожит голос, и я путаюсь в словах, не могу говорить по существу. Создаю впечатление глупого и неадекватного человека. Я об этом почти забыл, но во мне это пробуждается. Могилы с зарытыми фобиями раскопаны.
Меня остановил фотограф. Искал какой-то интересный ракурс. Про птичку напомнил. Он мне напомнил отца…который ушел от нас. Отец тоже постоянно искал новый ракурс поведения. Ему было скучно с нами, поэтому он и ушел. Он пробовал все – и брать нас в горы и ночные бесконечные разговоры и семейные обеды по субботам. Ничего из этого не вышло. Ни один ракурс не подошел. Тогда он ушел. Пошел ты, – сказал я фотографу. Тот опешил. Это произошло еще утром, я шел к театру и не знал, что таких фотографов будет больше за сегодняшний день.
Наконец, я оказался один. Актеры ушли вниз, я запер дверь и остался один. Ко мне стучали, просили открыть, я сказал, что очень занят. Понимающе уходили. Я колотил в стенку с афишей «Геликон-оперы». Это мне не помогло. Взлохматил волосы и заработал мигрень. Стенка ничуть не изменилась. Она словно была предназначена для таких, как я.
Я сел на диван и закрыл глаза. Репетиция, которая длится менее двух часов, я признаю недействительной. Только начинаешь разогреваться, звенит колокол и все, что ты накопил, теряется в пустой болтовне. Почему артисты так любят терять это? Они считают, что им ничего не стоит набрать. Они думают, что стоит выйти на сцену, и они могут все. Без исключения.
Мимо ходили люди. Кто-то открыл дверь запасным ключом. Мужчины, женщины, наливали кофе, включали компьютер, звонили по телефону. И уходили. Ко мне никто не обращался. Только один человек тронул меня за плечо, словно проверил жив ли я, я дернул плечом, и он ушел, наверняка с досадой, что я не окочурился. Вот радость то была. Режиссер хотел вогнать в могилу актера, но оказался в ней сам. Какой пассаж (крупным шрифтом) и более мелким (актеры не имеют претензий).
Так прошло несколько часов. Я слышал, как ушла секретарша, самое независимое существо, спросила меня, как я себя чувствую, на что я дернул правым плечом, и она меня поняла, оставив в покое. Театр затих. Я открыл форточку, чтобы выкурить сигарету. Я не курил, но мне нужны обстоятельства, которые вынудят меня делать это. Только я затянулся, как услышал гул, который сперва мне показался выдуманным, ирреальным, словно он был только в моей голове. Потом я увидел стоящих людей, перед крыльцом, узнал знакомые лица – актеры и понял, что они меня обсуждают. Это уже было. Но на этот раз, по их разговорам я понял, что они ждут моего выхода. Чтобы поговорить. Я не знал, каким образом они хотят это сделать, но я не хотел встречаться с ними. Сперва я думал, что они все же разойдутся, но они терпеливо ждали. При этом естественно поносили меня, мою режиссерскую школу, моего мастера, философски изрекали, что с такими, как я искусство будет терпеть убытки и деградацию. В общем, я мог записывать, но обошелся выслушиванием под сгорающую пачку сигарет.