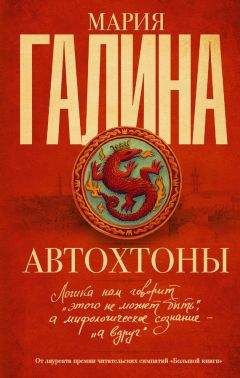– Ничего вы не понимаете. Их мало кто баловал вниманием. А картины существуют, чтобы на них смотрели. Да, так вот. Соня. Она стала гаснуть. Знаете, как это бывает, тихие такие дела, что-то не ладится в женской сфере. Женщины предпочитают об этом не говорить. Он водил ее к лучшим нашим гинекологам. Потом повез в Москву, потом они вернулись. Она уже не вставала. И перестала разговаривать с ним. Совсем. Словно он был виноват.
– На самом деле – нет?
– Конечно нет. В чем угодно, но не в этом. На самом деле это был ее выбор. Она ведь могла тогда поехать по распределению. Или уйти от него. Да все, что угодно. Но она предпочитала жить бок о бок, презирать и ненавидеть. А он продолжал ее любить. Она была для него всем, понимаете? Единственным оправданием всех его махинаций, всех компромиссов… И однажды кто-то обмолвился при нем, ну, как бы шутя, что в Гробовичах, в пригороде. Теперь это уже не пригород, в черте города, но все равно…
За соседним столиком старый Марек вновь расставил фигуры и теперь играл сам с собой – за белых и за черных. Неподвижное лицо, подсвеченное снизу огарком, было словно посмертная маска.
– Когда-то он служил в управе. А я сидел в гетто. – Вейнбаум перехватил его взгляд. – Старые враги – это последние друзья. Так вот… Там надо было проделать определенные манипуляции, уж не знаю, какие, и принять последний вздох. Буквально, не фигурально. Хоп! – и она уже второй жилец в этой жалкой развалине, именуемой человеческим телом. И, что особенно печально, ее-то никто не спросил, хотелось ли ей вот так… вместе с ним таскаться в сортир, мыться, подтираться, видеть… ну, понятно, что видит старый человек, когда занимается, скажем так, личной гигиеной. И никуда от этого не деться, никуда не уйти. Она и до этого его терпеть не могла, а уж тут…
– Ваш Воробкевич просто шизофреник. Раздвоение личности.
– Он – двоедушник. Не шизофреник – двоедушник. Вы что, ничего не знали про двоедушников?
Зря он нанял Вейнбаума в качестве консультанта. Все равно что нанять Мюнхгаузена.
– Постойте… вы тут сказали, что Марек служил в управе, а вы… Сколько же вам лет? И вам и ему?
– Не ваше дело, – обиженно сказал Вейнбаум.
Прошлое, которое никак не становится прошлым, словно бы вспышка, уже погасшая, но оставившая на сетчатке долгий светящийся след.
– Почему – Синяя бутылка? – спросил он неожиданно для себя.
– Простите, что?
– Ну вот, кажется, у Стивенсона был рассказ…
– Про синюю бутылку? Нет, при чем тут Стивенсон? Я полагаю, ну, просто красиво. И вывеску легко рисовать. Читать-то раньше мало кто умел. А так – висит синяя бутылка, и всем сразу понятно, что это синяя бутылка. А эту кофейню, по слухам, открыли сразу после турецкой осады. Ну, вы помните турецкую осаду.
– Буквально вот как сейчас!
– Очень остроумно. Так вот, храбрый шляхтич, там, кстати, в углу, его портрет, видите, темненький такой, через подземный ход в городской стене пробрался к туркам и поджег пороховой склад. Паника, дым, и, естественно, тут выскакивает из ворот городское ополчение, и турки бегут. И побросали все свое добро, и вот городской совет спрашивает храброго шляхтича, какую награду он бы хотел получить за свой подвиг, и шляхтич, поскольку путешествовал на Востоке…
– Говорит, ничего не надо, а только вон те мешки с черными зернами. И патент на их продажу на пять лет. Умный шляхтич попался. С деловой сметкой. Я слышал эту историю в Вене. Про одну тамошнюю кофейню. Якобы самую старую.
– Если одну и ту же историю рассказывают в разных местах, – сказал Вейнбаум, – значит, в ней есть, хм… зерно истины. Хотя бы размером с кофейное. Иначе зачем бы ее рассказывали?
– Маркетинговый ход.
– А как же! Но ведь нельзя выдумать то, чего не было. То есть можно, но это быстро забудут.
– Вы кто по профессии, мистер Холмс?
– Бухгалтер. Когда я начинал, это называлось счетовод. Нарукавники, счеты.
– Престижная профессия.
– Это сейчас. Но сейчас я уже не в деле. Иду, Марек. Вы еще что-то хотели спросить?
– Да. Про Валевскую-Нахмансон. Она пела в вашей опере до войны. И там вроде какая-то драма была.
– Между драмой и трагедией, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ее в тридцать девятом застрелил любовник, сотрудник НКВД. Прямо из партера, когда она пела Кармен. Это есть в путеводителе, мы очень гордимся этой историей. Мы вообще гордимся своей историей.
– Вы прямо как Шпет. Он тоже очень гордится. Но постойте… Сколько ей было в тридцать девятом?
– Под сорок, да. Но, говорят, выглядела от силы на тридцать. Сильный, хороший голос. Сопрано. Муж у нее был…
– Негодяй суровый?
– Что вы. Милейший человек. Инженер-путеец. На руках носил, баловал безмерно. И арестовали его, конечно. Говорят, она и сошлась с этим энкавэдешником, забыл, как его звали, чтобы спасти мужа. А мужа все равно расстреляли. Этот ее любовник и впрямь пытался его вытащить, даже пошел на должностное преступление. Что-то связанное с подделкой документов, подкупом, шантажом и отчаянием. Кто ж знал, что он такой горячий? У нас, знаете, тут все бурно. Оперные страсти. Вы, конечно, захотите нанести ей визит? Вас, я смотрю, очень интересует наше славное прошлое.
– В каком смысле – визит? Куда? На кладбище?
– Это тоже можно. Но я имею в виду – особняк. Там ее дом-музей, и еще там живет Янина, Янина Валевская. Потомок по женской линии. Там, собственно, одна сплошная женская линия.
– И она, конечно, поет в опере?
– Бинго!
– Не Кармен, случайно?
– Нет. В этом сезоне Иоланту. Она же сопрано.
– Вот тебе лютики, вот васильки! – пробормотал он.
* * *
Когда ты кругом виноват или считаешь себя виноватым и ничего уже не поправить, ты начинаешь прокручивать в голове все, что тобою говорилось за завтраком, за обедом, перед сном, раз за разом, раз за разом, и вот начинают проскакивать словно бы помехи на затертой пленке, и эти помехи вызывают новые помехи, и вот уже разговор звучит немножко иначе, потом совсем иначе, потом это уже совсем не тот разговор. И да, в конце концов… в конце концов она начинает тебе отвечать. Ведь ты можешь предугадать каждое ее слово, каждое движение, поворот головы, интонацию, взгляд, и вот она уже обращается к тебе с этой своей тонкой улыбкой, с чуть заметным, но таким выразительным движением бровей, и разговоры ваши длятся и длятся, наедине, в безопасности, без свидетелей, ночью, в тепле постели, горячечным полушепотом, на ухо друг другу. Вы никогда так не разговаривали при ее жизни.
И она все равно неустанно, без передышки, обвиняет тебя, обвиняет тебя, обвиняет тебя…
* * *
– Интересуетесь оперой? – Водитель в кожаной кепке говорил, не поворачивая головы.
– С чего вы взяли?
– Варшавская, двенадцать. Дом-музей знаменитой певицы первой половины двадцатого века Валевской-Нахмансон. Только он, хм, до семнадцати ноль-ноль.
– А я думал, там живут.
– Живут, а как же. Я бы и сам, хм, не отказался. – Водитель притормозил, красный отблеск плясал на мокрой черной брусчатке, потом сменился зеленым, словно в стыках между камнями вдруг проросла трава. – За коммуналку город платит. Три жилые комнаты внизу, две наверху. Гостиная. Комната для прислуги. Службы. Фонарь на фасаде. В смысле эркер. Сецессия, ар-нуво, одна тысяча девятьсот десятый, Левицкий строил.
– Но… ведь посетители?!
– До семнадцати ноль-ноль можно потерпеть. И там только первый этаж под музей. И то не весь. Гостиная и две комнаты. Все, приехали.
За черными ветвями, подвешенное в сумерках, светилось окно. Весной здесь расцветут сирень, и шиповник, и, может быть, чубушник. Дерево раскинуло в стороны голые ветки. Ясень. Или клен. Только не дуб, дуб бы ржавел, но держался до последнего.
Пьеса в трех действиях. «Особняк». Или даже «Особняк зимой». Действующие лица – старая помещица, ее приемная дочь, ее сын-студент… кто там еще? Ах, сосед, конечно. Сосед-помещик. Молодой сосед-помещик, красивый, наглый и праздный, и все в него влюблены, и старая помещица, и ее приемная дочь. И он стравливает их от скуки, и они грызут друг друга до смерти, две волчицы, старая и молодая, а сын-студент, влюбленный в девушку, конечно, стреляется.
– Варшавская, двенадцать. – Водитель включил свет в салоне, чтобы удобней было рассчитаться, и снаружи сразу стало совсем темно, только окно продолжало сиять и плыть во тьме внешней, во тьме кромешной…
– Да, – сказал он, – спасибо.
– Послушайте, вы ведь, хм… не местный? Могу вас повозить, показать любопытные места. Больше никто такого не покажет.
Таксисты всегда балансируют на смутной границе закона, пересекая ее в обе стороны к обоюдной пользе своей и клиента. Бордели? Игорные дома?
– Простите, а что именно?
– Ну… вот тот же Левицкий, это не самый лучший его особняк, скажем так. А вот тот, где сейчас австрийское консульство, на Сиреневой, вот он настоящий шедевр. Интерьеры вам вряд ли удастся посмотреть, но мозаику и витражи… И, кстати, с тем особняком связана интересная легенда. Один бедный студент…