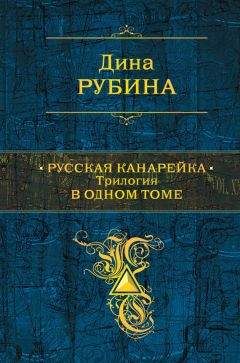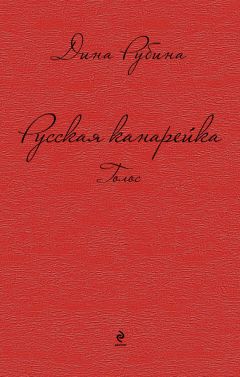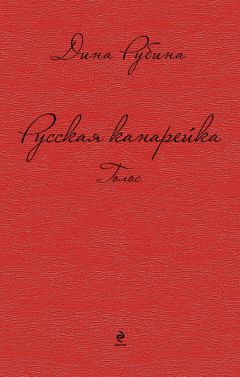…Мгновение спустя она обернулась на его молчание и выронила ложку. Вернее, положила ее мимо посудомойки, попятилась, локтем задела бокал, из которого Леон только что выпил воды, и бокал упал набок, покатился и хряпнулся в раковину, где рассыпался на мелкие осколки.
У сына было окаменелое лицо. Страшное лицо.
– Чё эт ты? – поинтересовалась она. – Лео, ты чё? Живот болит?
Леон смотрел на мать так, словно минуту назад впервые увидел эту дикую женщину и не может понять, каким образом и зачем она тут оказалась.
– Ты хочешь сказать, – наконец проговорил он ровным, любезно-бесстрастным тоном, каким говорил на допросах с убийцами, – что родила меня от араба?
– Выходит, так, – бодро отозвалась она.
Этого его тона она побаивалась. Было уже несколько случаев, когда она понимала, что сейчас он ее убьет. Может убить. И тогда он непременно бил что-то важное и нужное. Вот самокат ее раскурочил – саданул со всего размаху об стенку. А эта стенка – ей что сделается? Натуральный камень в метр толщиной… А однажды схватил нож и изрезал себе руку – сильно, швы даже накладывали. То, что сын – человек опасный, она знала с самого его детства. Но никогда еще у него не бывало такого лица: одновременно отрешенного, даже не телесного, а будто вырезанного из какой-то твердой блестящей породы дерева, и страдальческого.
Его всегда интересовали странные реакции человеческого организма. Шаули, который лет с двадцати пяти, возжаждав знаний, принялся жадно глотать и переваривать разные курсы и степени в университетах – причем в разных университетах, – недавно «брал» курс по психологии и рассказывал много интересного про механизм так называемых «неадекватных реакций». Например: что это было там, в армейском «рыцаре»? Что произошло с безупречным механизмом его, Леона, высокомерного спокойствия на допросах? А вот сейчас: почему после кошмарного Владкиного признания он ощутил только полный покой – светлый и страшный, глубоководный покой; должно быть, такой настигает ныряльщика, решившего больше не возвращаться наверх… Чувство, что ты не имеешь отношения к самому себе, что ты покинул границы собственного тела и смотришь на себя, такого-то, с таким-то именем, откуда-то сверху? Ощущение, близкое к обмороку.
Ты выходишь из дома в арабской деревне и, лежа на горе, стреляешь в себя снайперской пулей, что раскрывается в тебе, как цветок. И слышишь внутри шум чужой, враждебной крови, что прокачивается по твоим венам и артериям, поднимаясь к самому горлу, и надо скорей отворить вены и выпустить из себя до капли все отравленные душной ненавистью потоки. И мелкие, как стайка рыбок – случайный подводный сор, – мысли: где-то в неофициальной биографии Фета (да, именно Фета, с чего бы?) читал о потрясении, какое испытал он, ярый антисемит, узнав (мамочка призналась на смертном одре, мамочка, высокий образец русской женщины), что отцом его был курляндский еврей, то ли мелкий торговец, то ли еще что-то такое… ужасное.
И Фет был уничтожен, раздавлен и документы о позорном своем происхождении велел положить с собой в гроб.
Но вот что любопытно с точки зрения той же проклятой психологии: вы нос-то свой, Афанасий Афанасьич, никогда прежде не видали – до мамочкиного признания? Ну, а вы, вы-то, Леон мохаммадович, или хусейнович, или как-вас-там-еще, – вы, последний по времени Этингер, видали свою рожу? И что ж вы себе насчет этой самой рожи насочиняли, а? Какую такую средиземноморскую, чуть ли не сардино-итальянскую, чуть ли не испано-португальскую романтическую отцовскую легенду невзначай придумали? Да так еще придумали, что никогда ни единого вопроса Владке и не задали – а почему? На всякий случай? Чтобы она ненароком не вывалила вам неудобной правды? Да она ее и сама не знала – мадонна с младенцем, святая душа…
Ее надо убить, сказал себе Леон, медленно вращаясь в тихом гуле подводной раковины. Просто убить. Эту гадину. Сейчас же. Чтобы никто дальше не узнал.
Мать стояла, спиной опершись о кухонный шкафчик, как всегда, глядя на сына с доверчивым ожиданием праздника: вечный его ребенок, врушка, актриска, изобретательница; любимый зеленоглазый, потенциально опасный сюрприз.
– Значит, ты не нашла в Одессе никакого иного занятия, – медленно произнес он с ледяным отчаянием (по краю сознания метнулось: диалог оскорбленного отца с дочерью-шалавой), – кроме как путаться с арабской швалью…
Владка сказала просто и сильно:
– Он не шваль! Он был очень хорошим. Нежным и робким. Говорил: «Почему ты всегда опаздываешь, ведь я готовлю свое сердце к семи!» И если б у него не умер отец, все было бы по-другому! – Она была абсолютно уверена, что говорит истинную правду, которую к тому же сыну хочется услышать. – Но он уехал и не вернулся. Говорил, старшие братья строгие. А если б вернулся, мы поженились бы, вот.
…Вы «поженились бы, вот». И тогда я родился бы и вырос в каком-нибудь Шхеме или Рамалле, и взрывал автобусы, и в меня стреляли бы снайперскими пулями, что распускаются в теле, как цветок.
Он схватился за щеку, будто зуб заболел, и промычал, покачиваясь:
– Боже, тебя надо убить, убить… Тебя ж надо просто убить!
(В эту минуту она не сомневалась, что сын вкладывает в данное слово не переносный, не эмоциональный, а вполне обиходный и прямой смысл, наработанный им таким же обиходным – и тоже простым, как она подозревала, – действием.)
– Это тебя надо убить! – запальчиво крикнула она с потрясающей своей готовностью к отпору. – Я тебя сколько раз просила ставить бокалы в псудомойку! Вот я бокал из-за тебя разбила!
Он секунд десять смотрел на нее и вдруг истерично расхохотался, и хохотал долго – до слез, до икоты.
Наконец опомнился. Некоторое время неподвижно сидел, сосредоточенно глядя в угол.
– Что с тобой стало, Леон? – спросила мать, с недоумением разглядывая диковатое, обросшее, в пугающе спутанных космах лицо сына. – Что с тобой стало… в том аэропорту?
Он глухо проговорил:
– «Мандуш асаль анду аль-атиль»[38]. – И, усмехнувшись: – Впрочем… Какая в том беда Дому Этингера… Да?
Вскочил и выбежал прочь – от греха подальше.
* * *
Блоха, заблудившаяся на изнанке ковра: узор тот же, но узелки, узелки… ни черта не разобрать. Вот такой блохой он был, таким ему помнился короткий и тошнотворный период его жизни перед отъездом в Россию: мутный водоворот никчемных дел и бессмысленных шатаний, дурной аттракцион кривых зеркал, невнятица-бормотня, тяжелый сон…
Только Шаули, простодушный друг, к которому он переехал «пожить» на неопределенное время, но избегал говорить о своих делах, уходил из дому по утрам и пропадал до позднего вечера, а иногда и возвращался под утро, – только лицо Шаули осталось в памяти естественным: ни притворного сочувствия, ни натужной приветливости. Впрочем, в тот период Шаули и сам был чертовски занят в одной операции, то и дело исчезал, а вернувшись, просто заваливался спать, ничего не рассказывая и не объясняя. Друг с другом они общались короткими бытовыми фразами или оставляли записки: «Хорошо бы хлеба купить», или: «Хумус кончился».
И еще – Иммануэль.
В тот поздний вечер, когда небритый, обросший, нечесаный, провонявший специфическим запахом заведения Леон примчался к нему на мотоцикле и, ворвавшись в спальню, прямо с порога всё вывалил, старик глянул на него поверх очков и невозмутимо предложил… выпить.
– Серьезно, – сказал добродушно, всем своим уютно-вечерним видом отменяя смысл короткого слова, только что выхарканного Леоном с такой горечью. – Налакайся, как свинья, и отлежись у меня денька три.
Велел ему принести из бара бутылку коньяка, но тотчас передумал и послал на кухню за водкой: – Жаль на твою дурь тратить приличный напиток, – пояснил чуть ли не весело. – И помоги одеться, – приказал, – если уж свалился на голову среди ночи. Мои ужасные нубийцы терпеть не могут этих карнавалов с внезапным переодеванием. Они считают: уж лег так лег, старина! Дрыхнут, наверное…
«Карнавал» с поэтапной сменой пижамы на брюки и халат, с осторожным перемещением иссохшего старика в кресло (обиходные действия внутри разумного и милого сердцу Леона миропорядка) немного его успокоили.
– Жаль, что ты не алкаш, – заметил Иммануэль, наливая водку в белую чашку, из которой обычно запивал лекарство. – Это ведь благословение божье – забыться.
Вообще-то, Леон любил мягкие коктейли, как любил когда-то рюмочку Магдиной вишневки или сливянки; в барах проводил иногда по нескольку часов, сидя над одним бокалом. Водки терпеть не мог, но сейчас послушно выпил, потому что с детства слово Иммануэля было законом. Глотнул с омерзением, содрогаясь своим драгоценным горлом.