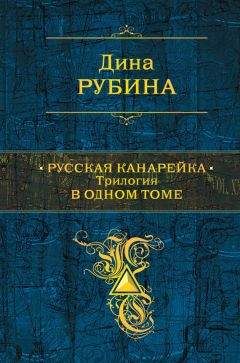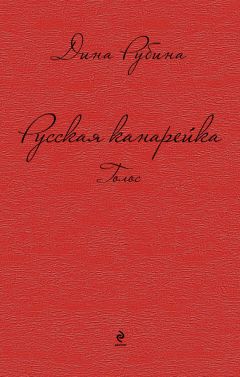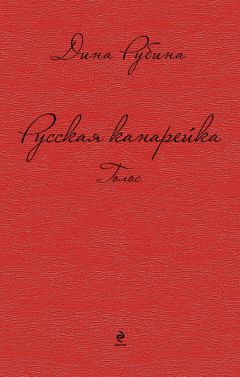Шаули (по некоторым признакам, он был не в восторге от ситуации) суховато объяснил Леону: его отец в молодости работал с младшим братом Аврама на стройке в Холоне, что, вообще-то, ничего Леону не объяснило.
Зато Аврам, прямодушный и благородный, как библейский посланник, с места в карьер объявил Леону, зачем, собственно, его разыскивал. Правда, все-таки дождался, пока Шаули смоется, вежливо сославшись неважно на что. Потом Леона беспокоило: не попросил ли Аврам его с самого начала очистить сцену? И чем это объяснил, и насколько Шаули осведомлен? (Никогда этого так и не выяснил.)
Зато Аврам, выхлебав свой чай, пропотев и налив себе еще, задушевно и грустно сказал:
– Щенок! Как ты смел так поступить с матерью!
И едва Леон понадеялся, что Аврам не знает подробностей и что Владка ему нагрузила вагон и тележку своего фирменного вранья, как тут же и выяснилось: именно в этот раз – единственный в своей жизни – его мать принесла в большие и добрые ладони Аврама чистую правду, омытую слезами ее кружовенных глаз. И теперь тот протягивал эти ладони к Леону, потрясал ими, закрывал ими свои прекрасные, ничуть не потускневшие от времени глаза-маслины, разглаживал скатерть на столе, качая плешивой головой:
– Как ты смел назвать «швалью» целый народ?! Разве у араба не та же кровь, не то же сердце, не та же боль?! И даже если мы лютые враги на этой земле, даже если мы пытаемся высудить у Всевышнего наследие праотца нашего Авраама – разве нам следует друг друга презирать?
…Ну, и так далее, и тому подобное, в самом возвышенном тоне. Смешной толстяк – лучший человек из тех, кого Леон встретил в жизни, – продолжал декламировать ему, похолодевшему (если она Авраму все выложила, этак она каждой кошке в подъезде объявит, от кого у нее сыночек), вечные, прекрасные и пустейшие идеи свободы, равенства и, без сомнения, братства:
– Может, ты вообще брезгуешь нами, восточными людьми? – подозрительно спросил Аврам, оборвав свой гуманистический монолог. – Может, тебе противны и мы, парси, которые…
Тут Леон застонал и поступил единственно возможным образом: обнял эту благородную добрую тушу, погрузился лбом в широченную мягкую грудь и уперся в круглый живот, прогремевший в ответ связкой ключей, где висел ключ и от их полуподвала, за который – надо отдать Авраму должное – они забывали платить ему уже много лет.
И хотя Леон обещал толстяку «прийти и повиниться, и ноги матери целовать», никуда он, конечно, не пошел и ничего не целовал: перетопчется, зараза. Но в одно прекрасное утро, дождавшись, когда Владка вырулит из дома и отбудет в вечно неизвестном направлении, вошел в квартирку, вытащил из шкафа кларнет, пробежался по регистрам, выдул несколько пассажей. Подумал с волнением: будто губ от мундштука не отрывал! И вдруг почувствовал такой прилив сил, такую радость, такой взмыв освобождения и надежды… Спасибо, Иммануэль, спасибо тебе!
Вытянув из-под кушетки чемодан, быстро и экономно, чувствуя себя вором, побросал в него кое-какую одежду, застегнул и уже направился к двери – но вернулся с порога.
Где-то в глубинах шкафа мирно спал саквояж с «венским гардеробом» Барышни. Оставлять его было опасно: Владка запросто могла выкинуть «старье» в очередном приступе расчистки жизни. На раскопки ушло еще минут десять, и вот уже упакованы и сложены в бессмертный саквояж были Барышнино платьице (кружева валансьен), Барышнин гобелен и две старые фотографии: подарившая Леону имя таинственная испанка Леонор в дурацком «парике парубка» и юная трогательная Эська с кенарем. («Знаешь, когда Николай Каблуков испарился, я пошла в фотографию и забрала вторую карточку, – сказала она. – Просто хотелось увериться, что мне ничего не приснилось».)
Так Леон и отбыл к Шаули – свободный, собранный, с кларнетом в руках. Шаули спросил:
– Ты ко мне с приданым? – но в душу лезть не стал. Как и любой профессионал в своем деле, он обладал некоторой неспешной мягкостью.
Оба они были кое-чему обучены, и хотя принадлежали разным конторам и после командировок заполняли разные бланки расходов, сдавая их в разные бухгалтерии, были верными работягами и умели многое: красть, обыскивать помещения, не оставляя ни малейшего следа; подбирать ключи к замкам, переснимать бумаги; когда надо – убивать, когда надо – бежать и прятаться. Друг другу близки были, как никто, и предпочитали зря не мусорить.
А наутро позвонил Натан, сказал: надо встретиться, ингелэ манс, поговорить начистоту, подбить бабки. В конце концов, добавил он, я думал, мы достаточно давно знакомы, чтобы тебе действовать напрямую, а не через Иммануэля. В голосе слышна была если и не обида, то уж наверняка досада (позже стало ясно – почему: как раз в те дни Натан прилагал усилия, чтобы, используя дымовую завесу скандала, перетащить Леона в свое ведомство).
И откладывать не стали, тем более что Натан сразу предупредил: «начистоту» – значит, говорить придется с самим Гедальей. Прямо у него в кабинете.
И снова Леон почувствовал то самое: близость перемен, воздух иной жизни, штормовой натиск Музыки, моей музыки, от которой я так далеко почему-то бежал…
И все уже крутилось, он уже узнавал по Интернету даты вступительных экзаменов в Московскую консерваторию, опять много занимался со Станиславом Шиком – готовил программу…
Иммануэль кратко и суховато объявил, что положит на его счет «некоторую сумму – на обучение и жизнь, и не частями, а целиком, а то я откину хвост, и мои детишки вряд ли признают тебя родственником. Думаю, тебе должно хватить и на жизнь, и на толику удовольствий. Это твой шанс, лови его… И – халлас[40], суч-потрох!»
Все еще было неясно, зыбко, непривычно, но уже так близко, так близко! В ушах пел кларнет, а горло сжималось от желания выпустить на волю парочку звонких трелей.
– Итак, – сказал Гедалья, подождав, когда закроется дверь за секретаршей, что принесла на сиротском пластиковом подносе три чашки отличного кофе. – Итак, Натан считает, что ты будешь хорош в России. Что тебе там медом намазано. Что там тебе самое место…
Леон молчал. Почему за Гедальей, как за Владкой, всегда хотелось переговорить слова? Хотя это были два во всем диаметрально противоположных типа.
Пространство стола между Леоном и Гедальей казалось пустынным, бескрайним, специально непреодолимым.
Леон знал эти приемчики, сам использовал в работе и плевать на них хотел. Натан сидел чуть поодаль, в низком кресле, перекинув ногу на ногу, якобы комфортно раскинувшись, якобы не вмешиваясь, но своего раскосого бычьего взгляда с ситуации не спуская; следил за течением разговора, был сдержанно зорок: Гедалья славился неожиданными вспышками.
– Но мы не работаем в России, – продолжал тот своим высоким певучим голосом муэдзина, уперев взгляд ящеричных глазок куда-то между Леоном и Натаном. – И, откровенно говоря, я иначе представлял твое будущее. С твоим арабским, с твоими, откровенно говоря и несмотря ни на что, блестящими и многоплановыми данными… – И вдруг, оборвав себя, резко выплюнул: – Чего тебе дома не сидится?
– Гедалья! – подал голос Натан, легко постукивая по ручке кресла пальцами целой, не калечной руки, будто передавал коллеге и сопернику некое зашифрованное сообщение.
– Я думал, с твоими задатками, – не обращая внимания на позывные Натана, упрямо продолжал Гедалья, сверля своим набрякшим взглядом приспущенные жалюзи на окне, – ты пригодился бы и здесь. Откровенно говоря…
Еще парочка откровенно говоря, и его речь была, в сущности, завершена. Ни грамма откровенности между ними быть не могло.
Леон молчал, тесно сцепив сложенные на груди руки: не открывай никому левого бока.
– Ладно! – сказал Гедалья и вздохнул. – Я ничего не понимаю в музыке. Фанни – та понимала… Ладно! Езжай, учись, бог с тобой. Хотя, убей меня, не возьму в толк, почему не учиться дома. Но мы никого насильно не держим, это против наших правил. К тому же я не смог отказать Иммануэлю.
Вот и произнесено ключевое слово. Имя ангела-хранителя, скрюченного годами и артритом.
И когда Леон уже приподнялся – завершить, наконец, это мучительское расставание с прежней жизнью, Гедалья, тоже приподнявшись (неужели все-таки пожмет на прощание руку?), оперся о стол костяшками и проговорил:
– Вот и все. Тебе остается только сделать паспорт. Твой российский паспорт.
Леон дернулся чуть ли не инстинктивно – как от щупалец спрута, что тянулись к нему через стол. Вопросительно обернулся к Натану.