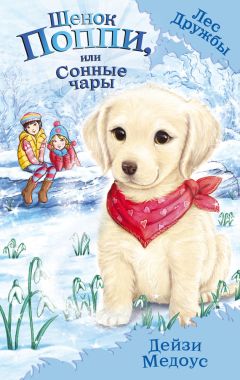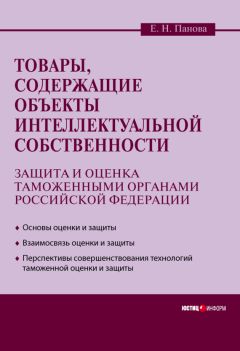Я взял мусорное ведро и одним широким движением руки сгреб в него все свои лекарства. Я спустил их в мусоропровод, и они гулко провалились вниз. Вслед за этим, по сути, чисто символическим действом, впервые за много дней я ощутил в себе прилив сил, словно это таблетки делали меня больным. Таблетки созданы, чтобы отдалить человека от смерти на сколь возможно большое расстояние. Расширить горизонты будущего. Но я не верил в будущее. Таблетки делали меня зависимым от того, во что я не верил. Они стали просто бесполезным обрядом, связанным с горечью во рту и вкусом холодной воды. Это всё равно, что три раза в день читать молитвы, не веря в бога. Я выбросил этот молитвенник будущего. Все мои молитвы летели вслед всему, что давно прошло. Всему, к чему было тем сложнее вернуться, чем дальше я уезжал. Я хотел уничтожить свое прошлое. Не потому ли, что больше всего им дорожил?
Я выбросил лекарства и оставил себе возможность балансировать на грани между реальностью и небытием, – я не мог найти для себя места ни там, ни здесь. К тому же, я всегда думал, что, только балансируя между этими двумя безднами, можно почувствовать, что существуешь. Это вовсе не значит, что я проживал каждый день, как последний. Что вообще значит это выражение, так воодушевляющее всех живых? Почему перед тем, как умереть, я должен делать что-то другое? Сказать всё, что не мог сказать раньше? Зачем говорить, если я привык ни о чем не рассказывать? В предсмертной спешке осуществлять мечты? Но зачем, если вот-вот меня не станет, и я даже не успею обрадоваться их исполнению? Ещё раз сказать всем близким слово «люблю»? Чем больше повторяешь одно и то же слово, тем меньше оно значит. Остро чувствовать свое существование значит всегда рисковать его утратить, – и от этого ощутить смысл в каждой детали хрупкого бытия. Понять жизнь до конца, – вот чего я хотел бы перед смертью – а не разбрасывать слова и не бежать на морской берег. Сколь бы сильно не любил я морские горизонты.
Я часто думаю о том, где же взяла начало моя любовь к прошедшему и безразличие к тому, что последует за настоящим. Быть может, из моего детства? Оно было полно мечтами, осуществления которых я ждал «чуть позже». Я подозревал, что будущего нет, но пытался верить в него изо всех сил. Напрасно. Будущее оказалось лишь выдумкой. Выдумкой людей, которые привыкли жить завтрашним днём, словно этот завтрашний день задолжал им всё счастье, которое они не сумели ощутить в настоящем.
Будучи ребенком, я, как и все обыкновенные дети, часто гостил в деревне у бабушки. Её просторный бревенчатый домик словно создан был для того, чтобы играть в прятки, и каждый день открывать новые потайные уголки, отыскивать чудные сокровища. Однажды я нашёл на чердаке старую оловянную машинку, которой играл ещё мой дедушка, когда был маленьким. Я очень гордился этой находкой и долго хранил её в ящике письменного стола.
Сколько увлекательного встречал я на пути, стоило только выбежать из дома, с трудом открыв тяжелую дубовую дверь. Неподалеку лениво паслись коровы. За низким забором цвели нескошенные луга, где пахло ромашкой, зверобоем и полынью. Кристально чистый пруд поодаль, где с веселым смехом и громкими криками когда-то плескались мы большой гурьбой. Потом в этом пруду утонул теленок, и с тех пор боялись к нему подходить.
Вдоволь наигравшись, я, довольный и уставший, прибегал домой, когда бабушка звала обедать. Садился на деревянный стул, – его дедушка смастерил специально для меня – резной и на высоких ножках. Стол неизменно покрывала расшитая узорами белоснежная скатерть. Он стоял вплотную к окошку, и я любил, облокотившись на руку, глядеть за окно, вдаль. Деревушка была совсем маленькая. С одной стороны дорога из неё уводила в соседний посёлок, а с другой стороны открывался вид на поля, которые тянулись далеко вперед, раскинувшись как лоскутное одеяло. Поля, засеянные рожью, пшеницей, овсом, или не засеянные вовсе и пестревшие гвоздиками, ромашками, дикими васильками, сурепкой. А за полями виднелась высокая непроходимая стена – настоящий дремучий лес.
Однажды я спросил у бабушки:
– А что там, за лесом?
– Никто не знает – обманывала меня бабушка, – Никто из местных не бывал на той стороне. Были изучены звериные тропки, протоптаны дорожки до родников, замечены грибные места, но вот на ту сторону леса никто не ходил: лес немаленький, да и незачем.
С тех пор я мечтал разгадать эту загадку. Всё свое детство я провел с мечтой побывать там, за лесом.
Там, за лесом…
Иногда я думал, что там – большой город с необыкновенной красоты садами и парками, где люди разъезжают по улицам на позолоченных каретах, запряженных в собачьи упряжки, или ходят на головах – в общем, там меня должно было ожидать что-то совершенно из ряда вон выходящее.
Там, за лесом…
А что, если там стоит древний, мрачный замок, где живёт коварный злодей, который вот-вот захватит мир? И только мы, жители нашей маленькой деревушки, можем помешать его планам осуществиться. Я взывал к активным действиям, но мне никто не верил, и под конец я смирился с тем, что наш мир окажется под властью этого злодея.
Но злодей не спешил захватывать мир, и я строил всё новые и новые догадки. Там живут привидения, или растут волшебные цветы, и порхают над этими цветами невероятной величины разноцветные бабочки.
Там, за лесом…
Каждый день в своих мечтах я разгуливал там. На той стороне.
Время догадок, смелых мечтаний и фантазий, почерпнутых из прочитанных сказок.
Повзрослев, я отправился ну ту сторону, захватив с собой походный рюкзак, компас и собаку. Расстояния оказались не такими большими, какими рисовало их воображение и бабушкины рассказы. Я шёл не так уж долго, когда впереди между раскидистых еловых ветвей замелькали солнечные блики. По краю леса рос плотный кустарник, пробраться через который оказалось непростой задачей. Но вот, наконец, путь был проложен. Отодвинув рукой последнюю ветвь куста, я вышел на опушку. Я вышел на опушку и замер на месте.
Там за лесом…
Там, за лесом – ничего нет.
Страница 23
Крик о помощи кричащему о помощи
Я не мог избавиться от одиночества в этом сером городе больных жизнью. Я чувствовал себя навсегда потерянным для мира и людей, но не мог уехать. Отчаяние властвовало надо мной. Оно не было для меня разрушительным чувством. Я имел к нему привычку, похожую на привычку к курению. Я никогда не мог долго наслаждаться счастьем, беззаботным, как вечное лето в городе фонтанов. Я начинал скучать по грусти, и с возрастающим нетерпением ожидал её прихода. Я редко признавался себе в этом и всегда наигранно (или так кажется только теперь?) сокрушался перед самим собой, что безутешно мечтаю о счастье, а судьба преподносит мне новые и новые удары.
Но правда состояла в том, что слишком долгое спокойствие неизменно рождало тоску по отчаянию, я не находил себе места, я ждал прихода отчаяния, как заядлый курильщик ждет новой сигареты. Эта плохая привычка, но труднее всего искореняемая, потому что она порабощает душу, а не тело. Отчаяние предсказуемо, как волна, которая ритмично, раз за разом набегает на тихий песчаный берег мыслей. Я знал, что мне не избежать этой волны. Я знал, что буду счастлив, когда эта волна накроет меня с головой. Я знал всё это и ждал, что волна вот-вот набежит на берег.
Почти с наслаждением позволив отчаянию завладеть мной, я отправился в вечернее путешествие по улицам, которые в этом городе никогда не становились чёрными, а лишь приобретали более глубокие оттенки серого цвета.
На одной из центральных улиц перед большим супермаркетом сидел калека без ног и рук и приговаривал: «Помогите, пожалуйста! Помоги-и-ите, пожа-а-алуйста!»
Я высыпал ему в сумку всю мелочь из кошелька и сел рядом с ним на остывшие бетонные плиты. У него были только наполовину поседевшие волосы, но морщины на обветренном лице и глубокая усталость во впалых глазах, цвета которых я не мог разглядеть в сумерках. Мне хотелось спасти себя от одиночества, я готов был кричать о помощи, и я выбрал его для своего тихого крика, сам не зная почему.
– Кем вы были раньше?
– Экспедитором.
– Где вы побывали?
– В Баренцевом море.
– У вас никого нет?
– Жена.
– Тогда почему вы здесь?
– Пенсии не хватает.
– Что с вами случилось?
– Я попал в автокатастрофу.
– Давно?
– Пятнадцать лет назад.
– Давайте поговорим, – попросил я, с нескрываемым отчаянием глядя в его лицо, которое не выражало никаких эмоций. Это был мой первый крик о помощи, который услышали люди. Первый и последний. Боль душила меня. Я упивался отчаянием.
– О чем?
– О чем угодно.
Несколько секунд молчания. Это было новое молчание. Молчание ожидающее. «Помоги-и-ите, пожа-а-алуйста!» – успел крикнуть он, пока я ждал, а потом, наконец, коротко и строго, но без тени злости, произнес: