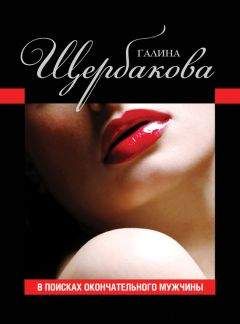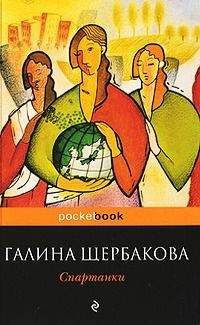Муж находил следы поисков легко, но не придавал этому значения. Надо было обихаживать новую трехкомнатную квартиру, построенную при помощи родителей. И Лорка принимала в этом участие – выбирала шторы, изогнутые стульчики для кухни. В общем, глядя со стороны, птица вила гнездо, ну а эти компьютерные глупости – от ее раннего замужества. Святой человек, Коля был выше самой мысли о распутстве, его понятия парили где-то совсем в других эмпиреях, и когда кто-то из знакомых толкал его в бок и говорил ему какие-то не те слова о Лорке, Коля на секунду замирал от обиды, но тут же понимал другое: он все стерпит, только бы она была тут, дома, с ним. Укрыть ее, скулящую от обиды на все человечество, на родителей-идиотов, на него самого, бестолочь, на дуру Люську, которая халда во всем, укрыть и гладить по костистой спине и утешать, что все будет хорошо, он ей обещает.
– Правда будет? – шептала она как маленькая. – Правда?
И он ей врал, неумело, глуповато, да ей, в сущности, и не требовались правда и умелость, он помогал ей нырнуть в засыпальную мечту то ли золушки, то ли старухи с корытом.
Коля шел в кухню, курил в форточку и думал, где взять деньги, которые не выплачивают уже два месяца. Фирма у него хероватая, начальник – истерик, его бьет жена по той же самой, Лоркиной причине. А третий их партнер пьет горькую, потому что его половина в поисках того же необыкновенного «мужика, который умеет все», подцепила нехорошую болезнь, лечится тайком от мужа, но он в курсе, ему рассказал сам бациллоноситель.
«Твоя тоже ведь таскается». Коля пошел пятнами и неловко ткнул его в бок.
– Я понимаю, – засмеялся тот, – знание давно не сила. Знание – придурок с кляпом во рту. Не лезь с руками, я могу двинуть круче.
Такой свойский мужской разговор, других как бы и не бывает.
И Коля укутывал вечно знобящую Лорку и поил из ложечки железистой настойкой от анемии, целовал круто стриженный затылок (зачем она его так? Ему нравились ее волосы) и уходил в кухню.
Люська пила чай из пол-литровой чашки, нарезая толстые куски колбасы на тоненький хлебок.
– Не многовато ли? – спрашивал он.
– А у нас разве был сегодня ужин? – отвечала та. – Мама бегала целый день, к вечеру свалилась, а ты, кроме колбасы, ничего не принес.
– Люська! – говорит отец. – Ну есть же яички, есть мясо, картошка, большая уже, сообразила бы что…
– Ты не переживай. Мне и так хорошо.
– А мне плохо, – говорит Коля. – Не знаешь, где моталась мама?
– Искала работу, наверное, – отвечала Люська. Отсутствие матери дома имело две причины – поиски работы и парикмахерская. – Ты бы ей помог. Она же умная и талантливая.
– В чем? – вырвалось у Коли, хотя он сам и посеял это объяснение для дочери: талантливым и умным трудно, легко дуракам и наглецам. И это «в чем» было как бы не по делу и сбивало дочку с толку.
– Она же пишет заметки, – ответила Люська. – Я читала. Клево.
Коля хотел сказать, что все, что Лорка знала, она уже написала: как рожала, как отводила в первый класс дочь, какими предателями бывают лучшие подруги и как отвратительно пахнут старики в транспорте. Теперь вот Люська требует, чтобы он отвозил ее в школу на машине – в троллейбусе ей воняет.
– Мама про это даже писала, – кричала она.
Но именно эту заметку никто не опубликовал, потому что Лорка требовала от стариков наличия дезодорантов и свежих вещей, а не тех, что из эпохи «задонщины».
– Ты что – сволочь? Ты знаешь их пенсии? Ты знаешь, сколько стоит пальто?
Лорка оскорбилась и ушла. Как это она не знает, что почем? Есть же, наконец, у стариков дети? В эти минуты она видела, как покупает матери двубортный брючный костюм и блузочки цвета чайной розы.
Ей казалось, что так и было. Но в жизни она приносила матери только ненужные ей вещи и ненавидела , как та их раскладывала. «Это будет еще носить Люська». «Это – внучке соседки, лишними шерстяные вещи не бывают». Лорке все это было противно, и мать, раздающая барахло, и те, кто это брал и благодарил. Сколько стоит пальто, она на самом деле не знала, ряды, где висели эти серые и черные уроды с цигейковыми воротниками, были ей отвратительны только на том основании, что носил их народ, к которому она никакого отношения не имела и не хотела иметь. Это ошибка, что она родилась в этой непригодной для жизни стране.
И тут же автоматом она спускалась по трапу самолета, прилетевшего в Ниццу, и в толпе встречающих стоял высокий красавец шатен со слегка посеребренными висками. И все было уже улажено, и номер в гостинице, и ужин на двоих, и небрежный поход в казино, где она дрожащими пальцами ставила фишку – и выигрывала. И тут же они уходили. Она трусиха. Испытывать судьбу дважды не стоит. Да и деньги ей не нужны. Деньги идут рядом. Они в шатене, в его висках, в его длинных пальцах с наманикюренными ногтями. И сейчас у них будет секс, такой бывает только у красивой и богатой женщины. Секс – симфония. Нет, лучше иначе: симфосекс.
Так она и жила, паря в фантазиях и давясь обыденностью.
Однажды она перепутала в голове свое место пребывания и грохнулась в обморок – от несовпадения реалий. Врач был груб и сказал Коле, что это истерика, что по части спасения от смерти тут делать нечего. От ватки с нашатырем девушка очнулась, только лицо было не совсем ее – для Коли, врач сроду Лорку не видел, и откуда ему знать, что у нее не было острых носа и подбородка, не было этих безумных, а одновременно и тухлых рыбьих глаз, что Лорка в общем-то была красотка, а эта сидящая перед ним на полу женщина вышла откуда-то из мира дам, пьющих абсент.
Уже уходя, он спросил Колю, не выпивает ли жена, тот затряс головой: «Что вы, что вы». – «Тогда к психиатру. Истероидный тип личности». Да она не такая, хотел сказать Коля, она же хорошенькая, но врач сказал сам: «Не похожа на себя? Психогенный ступор. Лечите жену. У вас девочка. Это передается. Двух истеричек даже Боливар не вынесет».
Коля вернулся в квартиру, а Лорка уже по телефону жаловалась матери на хама врача, который принял ее за сумасшедшую, а у нее просто голова закружилась. «Нет, не ударилась, давление в норме. Ну, ты же знаешь, что это такое?» – кричала она матери. Мать успокаивала и соглашалась, что врачи через одного попадаются хамы, что пусть она выпьет валосердин, и все будет хорошо.
– Все будет в порядочке? – спрашивала детским голосом Лорка.
– Все будет в порядочке, – отвечала мать. – Я тебе обещаю. Ложись, и пусть тебе приснятся зайцы на лужайке.
Коля увидел, что жена обрела свое лицо, он уложил ее в кровать и стал нашептывать глупые любовные слова. У него разрывалось сердце от жалости к ней. И приготовленную для Лорки валерьянку Коля выпил сам.
Мороз и солнце, день чудесный… У перехода кричат женщины и машут руками. Издали видно, как проходящих мимо, словно ветром, отбрасывает от них в сторону прямо на проезжую часть. Через минуту в сторону кинусь я. От кого и чего убегаем? От подвига. «Подвиг» мокрыми штанами примерз к асфальту. Он еще громко спит, но шанс замерзнуть у него сохраняется. Нырнув в магазин, думаю: «И ни одна сволочь…» Вовремя останавливаюсь. Я же та самая «ни одна». Пока туда-сюда, слышу радостные крики. Бабоньки собрали-таки недостающие силы женщин (мужчины отпрыгивали от них особенно прытко) и теперь вносят вонючего дядьку в магазин.
– Под батареечку его, родимого, под батареечку!
Лучи солнца меркнут и гаснут в сиянии нимбов над головами жен-мироносиц конца тысячелетия. Про глаза – слов нет: в них голубизна, первомай и Пасха.
В магазине начинает остро пахнуть «подвигом». Отдел мгновенно пустеет. Второй я выскочила или третьей? Пусть тот пьяный живет сто лет и пусть у него все будет хорошо. Но эти, с нимбами… Попробуйте позвать их посидеть с дитем малым или с больным… Помыть в очередь лифт… О!!!
Совершив деяние, женщины выходят из магазина. Несколько секунд толкутся в неуверенности дальнейшей жизни. Первым затухает нимб. Потом глаза. Из пасхальных они преображаются в каждодневные – злые-презлые глазауси. Не для праздника – для жизни. Шкурой чувствую, как сейчас достанется от них какой-нибудь «шляпе в очках». О подруги мои, о наш электорат…
(«Огонек», 1996 г.)
Кот, с которым хотелось поздороваться
Я надеваю брюки, полосатую тельняшку навыпуск, щеткой взбиваю волосы на левое ухо, делаю совершенно легкий мазок помадой и только тогда беру мусорное ведро. До контейнера мне шагать ровно семьдесят метров – сто сорок моих шагов. Мимо четырех подъездов, двадцать два окна на первом этаже с поднятыми занавесками. И в каждом втором кто-нибудь стоит. Смотрит, как я несу зеленое эмалированное ведро. Не специально, конечно. Просто по теории необходимости одному надо посмотреть, какая погода, другому – кого-то высмотреть вслед, третий ждет, как вскипит чайник, и глядит от нечего делать в окошко. А тут иду я… Небрежная такая, элегантная. Ведро несу, как букет цветов. Человеку и погода покажется лучше, и чай вкуснее. Он, может, даже отчета себе не отдает, что это я во всем по-хорошему виновата. Так я пыталась наполнить смыслом самые прозаические дела, которые приходится делать даже самому возвышенному человеку.