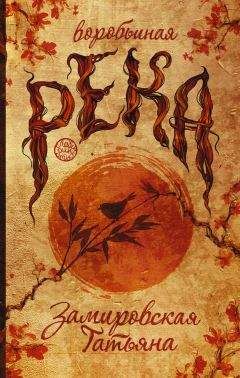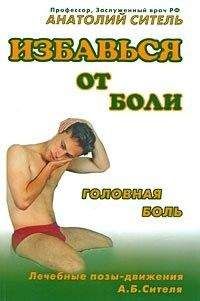Ковалицын выбежал в подъезд и от безысходности дежурил три часа под лестницей. Когда мимо шли заснеженные мужчины и женщины в треугольных шляпах, он выскакивал весь всклокоченный и пытался рассмотреть их, пока они неуютно прошмыгивали мимо. К сожалению, он так и не вспомнил, как выглядят женщины. Одну из них ему даже посчастливилось затянуть под лестницу и дотла раздеть, зажав ей рот оранжевым шарфом, – ноги опять же, какие-то темные полосы внутри живота, кошмарные железные складки из детских сказок про смерть, маслянистые волчьи глаза где-то в глубине, если насильно развести пальцами, стройный куриный сустав с клочьями чего-то насекомого и разноцветного – всё чужое, всё неизвестное ему, и ни одной зацепки, ни одного луча света не выбивается из этих одиозных отверстий, чтобы помочь ему вспомнить, осветить его жизнь и вывести его из сумрака.
Ковалицын вернулся домой (пострадавшую женщину он как-то умудрился одеть и вытолкать из подъезда назад во двор, чтобы она отдышалась и постаралась не думать о плохом) и включил радиоточку.
– Три угла, – сказали в радиоточке, – три кольца – это как три слона: кольца с живыми подвижными хоботами и размножаются через лень и грязь. Посередине – живая кукла матрешка. Открываешь ее – и так четыреста раз. Приблизительно вот такое зрелище.
– Спасибо, – прохрипел Ковалицын. – Я не могу вспомнить, но верю вам на слово.
– Еще у тебя воспаление оболочек мозга, – добавило радио, – поэтому ты и забываешь такие простые вещи. Но это ничего, иногда помогают антибиотики.
Ковалицын повалился на паркет и, взмахивая руками, точно отгоняя невидимого медведя, уснул. Ему снились прозрачные гибкие ампулы с антибиотиками, пахнущие чем-то больничным и революционным – когда одну из ампул внедрили в алый мраморный шприц и поднесли к его уху, чтобы он услышал, как антибиотик внутри перекатывается, он приблизительно понял: ну да, женщины какие-то вот такие же, все как-то вот так теперь будет, как-то так.
Фармацевту Вешникову нравится пловчиха Маша. Он приглашает ее в кафе, он приходит к ней домой поиграть в настенный теневой бильярд, он даже дарит ей подшивку газеты «Око». Маша выглядит умной, много молчит, по вечерам выбрасывает в форточку одноразовые контактные линзы.
Фармацевт Вешников очень хочет узнать все о пловчихе Маше. Он изучает содержимое ее шкафов, читает ее блокноты и менструальные календарики («Маша не каждый день может плавать, оказывается», – удивился Вешников), пьет чайное вино с ее подругами и заражается от них неизлечимыми вирусами красноречия и пустословия.
И все ему мало; кажется ему, что Маша что-то скрывает.
« Давай попробуем встретиться раньше », – однажды предлагает он.
Маша кивает и вынимает из головы небольшую пластмассовую уточку, потом аккуратным движением вставляет ее в слот в форме уточки, расположенный глубоко в затылке Вешникова.
Вешников встречается со студенткой Машей на втором курсе, но она бросает его ради возможности плыть вдаль и получить медаль; Вешников дарит Маше-первокурснице букет гангрен, ганглий, гранатов – Маша смеется и уплывает за горизонт бороться с испанцами за стальной вымпел; Вешников подстерегает шестнадцатилетнюю Машу в подъезде, прижимает ее к белой, сыплющейся кальциевой перхотью стене и целует в прозрачные зубы, но Маша мотает головой и хихикает: « Нет, я тут не могу… нет, ой, ты что… »; Вешников подбрасывает школьной Маше в портфель живого ежа, но еж оказывается мертвым (причем давно, вот ужас-то); в детском саду Вешников отдает Маше свою порцию молока, а оно оказывается отравленным – смерть, смерть; Вешников и Маша встречаются в мире растений, и одно растение без остатка сжирает другое – стоп, остановить.
«Нет, – говорит Вешников, вынимая из головы гудящую и нагревшуюся уточку. – Раньше не получается никак».
«Зато смешно же», – уныло отвечает Маша, но ей как-то не по себе. Теперь ей больше нечего скрывать от любопытного влюбленного Вешникова – и теперь он может надеть пальто, поцеловать ее в левое весло и уйти навсегда, потому что если в прошлом у них как-то не складывается, какой смысл пытаться делать вид, что сложится в будущем?
Так все и случилось. Какое мудрое изобретение все-таки, думает уходящий Вешников, и правда – если ты хочешь знать, стоит ли тебе пускать что-то в свою будущую жизнь, вначале проверь это прошлой, все равно она уже растрачена, потеряна, исхожена, израсходована; ее можно терзать сколько угодно – непаханое поле!
Правда, он забыл, что на самом деле хотел узнать совершенно другое.
Молодые и талантливые литераторы Алефьева и Сельницкая сидели на кожаном диване и ели соленых рыбок из пакета. Алефьева на днях выиграла душу какого-то пятилетнего мальчика (« Возможно, того самого мальчика, фобии которого когда-то выиграл Фрейд в алкогольную лотерею », – удовлетворенно думала она, и эта мысль крошечным олененком резвилась внутри ее мягкого живота) в рамках конкурса молодых и талантливых литераторов, а Сельницкая не выиграла в конкурсе ничего, но это из-за неучастия, а вообще Сельницкую недавно взяло под крыло издательство «Кудри» и посулило ей экранизацию и сериал. Сельницкая написала ногтем на пепельнице «Экранизация» и показала пепельницу Алефьевой.
– Когда я влюбляюсь, я вообще ничего не могу написать. Какая-то ерунда выходит, – улыбнулась Алефьева, разламывая пепельницу пополам.
Подошел официант и заменил пепельницу.
– А я наоборот! – улыбнулась Сельницкая внутрь себя (« Ого, у нее синие зубы! » – подумала Алефьева, за спиной запуская пальцы внутрь обивки дивана, стараясь нащупать сердечный бриллиант вдохновения). – Когда влюбляюсь, начинается дикая пруха. Я постоянно что-то пишу. А потом читаю – будто это была не я. Перечитываю и восхищаюсь, потому что даже и не узнаю толком себя. Уже потом узнают – но это уже другие люди себя там узнают и меня за это презирают.
– Меня тоже презирают, – вздохнула Алефьева. – Вначале восхищаются, потом встречают там что-то о себе и начинают презирать. В постели презирают крепче всего – жуют плечо неземной болью, тайно обрезают мне волосы ножом и кладут их под подушку, от же ж сюрприз наутро: отрезанная коса и лужа ржавой крови под подушкой, волосяная фея приходила и накровоточила в подарочек; а утром вместо кофе несут в постель живого дикобраза. Я так однажды проснулась – обняла дикобраза, сморщилась вся, как воздушный шар, и сижу. И чувствую, как иглы эти чертовы насквозь мозг и печень, как орел Прометею, – больно, да. Но я терплю и думаю: да, эта боль мне поможет, в моем творчестве любая боль – верный проводник. Я потом просто беру эту боль, как любовника, за руку – и веду ее в другую, чистую и бескровную, постель, которая находится в моей голове, куда иглы не достают. Там все белое вокруг – и мы с этой болью играем на белом, как котята, и засыпаем в объятиях, а наутро я подхожу к компьютеру на цыпочках – а в нем уже пылится новый рассказ. Мой новый рассказ для конкурса.
Сельницкая запускает пальцы в волосы Алефьевой.
– Когда я кого-то бросаю из своих мальчиков, выходит похожее. Но не так. – Она понимающе смотрит на Алефьеву, отмечая крошечные шрамы на ее детских ушах. – Бросаешь человека и все равно звонишь ему каждый вечер, чтобы узнать, кто там теперь вместо тебя заполняет ему клеточки в кроссвордах. После каждого такого звонка садишься и пишешь роман. Потом отправляешь роман куда-нибудь в Интернет и ждешь реакции. Как правило, она приходит – но уже не от этого человека. От другого. И клеточки как бы заполнены. Но потом случилось вообще страшное. Они все – брошенные мальчики эти – собрались под моим балконом и написали на асфальте синей краской что-то такое. Что-то такое непонятное. Видимо, они тогда под балконом и познакомились, но все до этого, автономно то есть, пришли с синей краской и огромными малярными кистями, чтобы написать под окном. У меня был день рождения тогда, и все хотели, видимо, написать синим «С добрым утром, солнышко», будто я вернусь к ним после такого, хотя я же такая, что никогда не возвращаюсь, да, я такая. А что синий я люблю, так я про это пишу всегда. И вот они там стояли до утра, а потом я вышла на балкон покурить, а там такое написано, что я офигела просто.
– Ну да, ну да, – вынимает Алефьева из сумочки глазной карандаш, чтобы нарисовать себе глаз на тыльной стороне ладони. Когда нервничает, она рисует себе глаза по всему телу. « Издержки популярности », – задумчиво сообщает она случайным людям, бесстыже пялящимся в эти неловкие, нежные очи плеч, локотков и мягких масляных коленок с ресничками.
Подошел официант и заменил прокуренную и грязную пепельницу на чистую, но заклеенную изолентой. Это была та пепельница, которую разломала Алефьева полчаса назад.