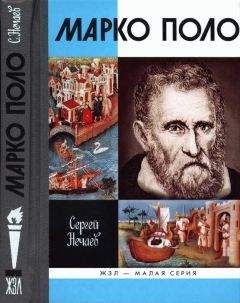– Сегодня чаем будем запивать.
Лёшка промолчал. Запивать так, запивать. Он видел, что Юрьев старался быть весёлым и безмятежным, но что-то было не так. Расспрашивать не стал – попаримся, выпьем, сам расскажет. Для этого и звал.
Не успели раздеться, заглянул Юра – хозяин сауны.
– Вижу, вы сегодня без веничков. Вот возьмите. – Он протянул пару дубовых и добавил многозначительно, с серьёзным видом: – Из резерва Совета министров.
Толя деланно удивился, округлив и без того свои огромные глаза:
– Ну ты даёшь! Я и не подозревал, что в Совете министров есть резерв веников! Спасибо!
Юра задерживаться не стал и, пожелав крепкого пара, удалился. С ними он никогда не парился, всё норовил начальству парку поддать, выпить с этим самым начальством, наивно полагая, что в бане все равны. Так это ведь только поговорка такая, это ведь так только, кажется, особенно, если хочется. Впрочем, в общей, городской бане может быть так и есть. Но здесь, в элитной… Каждый сверчок… и так далее.
Попарились друзья в этот раз на славу. И бутылочку распили, ещё попарились, ещё одну распили, сидели, закутавшись в простыни в глубоких кожаных креслах. Лёшка чувствовал, что ему уже хватит, а Толька – как стёклышко. Недобрал. «Серьёзный разговор, – думал Сидоров, – раз не начинает. – Он видел, что друг мается, хочет ему что-то рассказать, да всё решиться не может, не знает, с чего начать. – В чём же дело?» Тревога начала подкатывать к сердцу. Но торопить не стал. Подошёл к телефону, по внутренней связи набрал дежурного.
– Юрий Иванович здесь? Нет? Жаль. Будь другом, подойди к сауне.
Через пару минут в дверь осторожно постучали. Лёшка выглянул, на пороге стоял средних лет опрятно одетый мужчина. «Дежурный», – понял Алексей. Негромко сказал:
– Слушай, друг, у нас горючее закончилось, а у вас, я думаю, НЗ должно быть. Нам бы только бутылочку. Одну.
Дежурный улыбнулся.
– Есть НЗ. Не вы первые.
И достал из внутреннего кармана широкой куртки литровую бутылку столичной.
– Службу знаешь, – не удивился Алексей. Взял бутылку, – расплатимся на выходе.
Дежурный замялся, переступая с ноги на ногу, потом нагловато глянув на гостя, не громко, но твёрдо сказал:
– Лучше бы сразу. А то потом забудете, а мне вас дёргать за руку несподручно. Да и смена у меня скоро, а у вас время не ограничено, – и добавил уже чуть смущённо: – Юрий Иванович сказал.
Лёшка пожал плечами.
– Ну сразу, так сразу. – Мокрыми руками достал из пиджака портмоне, расплатился, кивнул дежурному. – Спасибо.
Тот взял деньги, широко улыбнулся: «Не за что» и исчез, как испарился. Лёшка пожал плечами, у него остался неприятный осадок. Но до того ли было? И бутылка не радовала. Его больше тревожил Толька.
Он открыл бутылку, бухнул другу почти полный стакан, себе налил треть. Толя глянул на него удивлённо, но ничего не сказал, залпом выпил водку, закусил кружочком огурца, поглубже устроился в кресле, раскинув руки по подлокотникам, вздохнул и начал:
– Ну слушай. Хреновые у меня дела с Ленкой. Видишь, как получается: квартира есть, дача есть, машина есть, барахла полный дом, дочку-красавицу вырастил, на службе порядок, каперанга, сам знаешь, досрочно получил. А главное – любовь есть, всё есть! – Вздохнул, пожал плечами, скривился как-то весь, потом продолжил, как выдохнул: – Секса нет… Не перебивай, – заметив движение Алексея, повысил голос, – и никогда не было.
Лёшка молчал. Помолчал и Анатолий, снова вздохнул.
– Ну не то, что никогда не было. Было, конечно. Вроде бы всё нормально. Сколько лет прожито. Как будто всё путём, всё, как у людей. Не секса не было, кайфа от секса не было. И нет, – поправил он себя. Поморщился. – Не то говорю. Понимаешь, когда совсем молодой был, горячий, сперма из глаз пёрла, только себя и чувствовал, только бы себя удовлетворить, о Ленке не думал, да ей и хватало, не в этом дело. Трах-бах – и готово! Доволен, как слон. Всё прекрасно. Потом уж, со временем всё изменилось. Не знаю, как у тебя, но для меня это трах-бах не главным стало. Главной стала женщина, Ленка. Начал я её чувствовать. И главным стало – ей кайф этот доставить, чтобы ей хорошо было. А потом уж о себе думать. А с Ленкой это редко получается. Почти никогда. Понимаешь, нет у неё сексуального таланта.
Ну всего Лёшка ожидал, только не этого разговора. Вообще друзья, несмотря на самые близкие отношения, полную откровенность и доверие, о женщинах никогда не говорили. Как-то само собой выработалось у них табу на эту тему. Поэтому он и был озадачен Толькиной откровенностью. Не знал, что сказать. Начал мямлить.
– Как нет таланта? Она же такая красивая, весёлая. А как поёт, танцует. Не может быть.
– Может, не может… – Раздражённо перебил его Юрьев. – Тут же не о песнях с танцами речь! Конечно, тебе этого насчёт Ленки знать не дано. Это можно ощутить и оценить только в постели. А что ты можешь оценить?! Она же моя жена, моя! Не твоя! Поэтому тебе этого никогда не узнать! Только от меня. Вот и слушай. Да, красивая, фигуристая, что грудь, что попа, ножки, как на картинке, ума палата, а в постели – ноль. Ну не ноль конечно, но близко к этому.
Вот говорят, что у всех баб всё одинаково: что у королевы, что у доярки. Хренушки! Иная доярка в этом деле королеве сто очков форы даст. Да что доярка? Вон императрица наша матушка Екатерина. Безродная, безграмотная прачка солдатская до императорского трона добралась! – Он поднял вверх указательный палец и, задрав голову, посмотрел куда-то в потолок. – До императорского!.. И не последнюю роль в этом взлёте постель сыграла! А царицу Евдокию Пётр в монастырь отправил! Как тебе этот шахер-махер? А ты говоришь – одинаково! Не одинаково!
Лёшка пожал плечами.
– Да ты так затарабанил, что я не то, что сказать – подумать ничего не успел.
Юрьев, с усмешкой глянув на него, продолжил:
– Не успел… Ты много чего не успел! Ну что ты на меня так смотришь? – Он укоризненно глянул на друга. – А насчёт Ленки… Всё ей Бог дал, а этого не дал! У одной талант петь, у другой танцевать, у третьей и то и другое. Вот и в постели нужен талант, или, в крайнем случае, способности. Это ж не просто – ноги раздвинуть! Талант нужен! Вот и думай: одинаково у всех или не одинаково. Об этом я тебе и толкую. Сначала-то, как говорил уже, не разбирался я в этом. Хоть и не семнадцать лет, а из похода придёшь, полгода без женщины – тут бы поскорей, да погорячей, да много-много раз. А потом, когда поостыл, другого захотелось. Больше любви, больше ласки. Понимаешь, больше её счастья, чем моего! Я всё ей в глаза заглядывал: хорошо ли ей! А в ответ – ноль! Она как будто работу тяжкую выполняет. Лежит без движения и баста! Ждёт, пока я закончу, потом двигаться начинает, а мне-то уже не в кайф. Потом иду в ванную, как оплёванный. И так из года в год… Надеюсь, у тебя с Лизой не так. – Он снова помолчал. – А про Лену… Ты-то на неё, как на королеву, смотришь. А если бы всё знал, смотрел бы иначе. Но, друг, тебе этого знать не дано. – Он покачал головой, повторил: – Не дано!..
«Дано, ох как дано»… – В хмельной голове Сидорова отчётливо всплыл тот вечер в Бабушаре. Он хотел броситься к Юрьеву, рассказать, как было дело, что всё получилось случайно, и он не хотел этого… Совсем не хотел!… Но тормоза всё же сработали. Пьяный был, а тормоза сработали. Зачем ворошить старое? Давно это было. Очень давно. И время успело заглушить те страшные угрызения совести, что мучили его не один год. Время лечит. И вот теперь, через столько лет, Юрьев, сам не зная того, нанёс ему удар. Удар по совести.
Лёшка прикрыл глаза, сбрасывая наваждение той ночи и окончательно подавляя в себе идиотский порыв, признаться в своей подлости. «Нет, я не могу, не имею права рушить Толькину семью, делать несчастным и его, и Лену, да и Таньку тоже. А моя семья?».
Он тряхнул головой, спросил:
– И что это ты надумал?
– Да ничего я не надумывал. Не в этом дело. – Он назидательно, как строгий учитель, помахал указательным пальцем перед Лёшкиным носом. – Если по-настоящему любишь женщину, любишь её за всё: и за её прекрасные глазки вместе с ножками, и за недостатки. Это сначала на глазки и всё такое, смотришь. Но это ещё не любовь. Любовь, настоящая любовь, позже приходит. Вот когда и недостатки полюбишь, тогда только, считай, и пришла настоящая любовь.
Причём недостатки эти, может, больше любишь, чем достоинства. Потому что в нашей, русской, любви неизвестно чего больше: восхищения или жалости. Не про все я Ленкины недостатки тебе рассказал, да они тебе и не нужны. – Помолчал, потом продолжил: – Чтобы про всё рассказать, мне надо ещё литра три выпить. И то не рассказал бы. Тоже потому что люблю её. Но могу сказать, иногда смотрю на Елену как раз, когда недостатки эти самые проявляются, и так жалко мне её становится, веришь, – сердце замирает! Вот тогда и кажется мне, что именно в эти моменты люблю я её больше всего на свете.
Он встал, закутавшись в простыню, прошёлся по комнате. Налил себе воды из графина, залпом, как водку, выпил. Щёки его заалели. Метнулся по комнатёнке из угла в угол, сел на место.