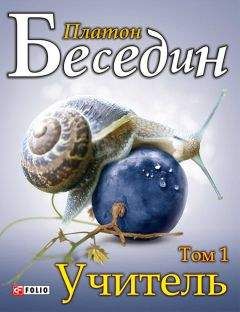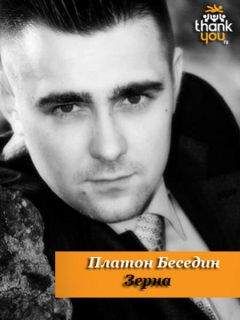Надо приехать на площадь Захарова раньше. Сделать приготовления. Спрятать мастерок, дерево в установленном месте. И ждать Раду у автобусных касс. Нервно, суетливо, волнительно. В ожидании Рады; Беккет выбрал не то название.
Хочется, чтобы рядом со мной был Квас. С его вечной шариковой ручкой в зубах, ухмылкой под Кита Ричардса и спортивной сумкой, в которой он принесет тишину. Но его нет, и я топчусь на месте, устаю и начинаю ходить вдоль берега моря, мимо бетонного забора, украшенного изображениями российского триколора и надписями вроде «Крым – Россия!» или «Севастополь – Черноморский флот – дружба». Бубню вычитанную у Луизы Хей – мама отвергла ее как не православную литературу, а мне понравилась – аффирмацию «я люблю и одобряю себя».
Рада приезжает – пятнадцать минут опоздания разрешается английской королеве, но за сорок восемь разве не отстраняют от престола? – на рейсовом автобусе номер «36». Пахнет от нее так же, как от ее письма – оглушающе терпко. Дышится мне с трудом.
Еще труднее смотреть Раде в глаза, а не в сторону, как обычно. Но смотреть, вспоминая ее письмо, надо. Томный, завлекающий взгляд. Вообще вся она, как подходящее дрожжевое тесто – распаренное, податливое, мягкое, – трогай руками, мни.
Я выталкиваю вперед руку, тянусь к ее ладони – так медленно, что подвисают стрелки часов – и все-таки сцепляю на ней пальцы. Теплая, мягкая, нежная плоть. Ивлин Во ошибался. Рада улыбается, и, обнадежившись, я говорю:
– Пошли!
Правда, на репетициях я произносил «идем». Властно, конкретно, словно Терминатор, протягивающий металлическую лапищу Саре Коннор и монументально чеканящий: «Идем со мной, если хочешь жить».
Держусь справа от Рады, согласно полученной от нее в прошлый раз инструкции: если нападут хулиганы, то так мужчина сможет защитить даму. Хотя мне больше нравится объяснение из «Крокодила»: «Женщина идет с левой стороны от мужчины, чтобы, когда он посмотрел налево, то увидел ее».
Украдкой посматриваю на Раду, фокусируясь на ее груди. Белый топ, надетый под расстегнутый джинсовый пиджак, обтягивает ее и поддерживает снизу, лишь прикрывая соски. Но с высоты своего роста я вижу два трепещущих, поднимающихся от дыхания холма, хотя больше – не знаю почему – меня волнует пространство между ними.
Я вижу женскую грудь, не считая маминой в детстве, столь открытой, так близко первый раз в жизни. И подмышки властными липкими касаниями трогает испарина.
Для кого так оделась Рада? Для меня! Это же очевидно. Больше не для кого.
Эта мысль радостная. И греховная – так пса моего тщеславия еще не кормили. Но более всего эта мысль пугающая – значит, Рада настроена на… Вздрагиваю, не в силах произнести; испарина уже не касается – теперь она и есть я.
Стараюсь, дабы питать разговор, нести так называемую милую околесицу. Правда, заготовленные, точно дрова на зиму, анекдоты, шутки забылись, предательски скрылись в сумраке памяти, и приходится импровизировать. Не слишком удачно.
Я силюсь вспомнить хоть крупицы из того, что заучивал три вечера подряд. На ум приходит лишь один анекдот, папин любимый.
– Знаешь, кто умнее прапорщик или обезьяна? – говорю я.
– В смысле?
– Ну, анекдот такой есть, кто умнее, прапорщик или эта, как ее, обезьяна.
– А, – Рада поправляет круглые серьги, – расскажи.
Я замолкаю. Отдергиваю руку, чтобы Рада не пропитывалась моей паникой.
– Ну, рассказывай…
– А ну да, – надо собраться. – Так вот, решили выяснить, кто умнее прапорщик или обезьяна. Кто, в общем, быстрее сорвет с дерева банан. Обезьяна трясет час, трясет два, наконец замечает палку рядом, берет, сбивает банан. А прапорщик трясет и трясет. Ему говорят: «Товарищ прапорщик, вы, может, подумаете, а?» Он, значит, останавливается, смотрит и говорит: «Чего думать? Трясти надо!»
Рада сдержанно улыбается.
– Не мытьем, так катаньем.
Дальше идем молча, скованно, напряженно. Хорошо, что на лестнице открывается панорама Северной бухты и городской стороны. Севастополь вспыхивает оживающими светлячками, и придорожные фонари, которые отремонтировали полгода назад, реанимировав после коматозной тьмы, тянутся сверкающими диадемами.
– Красиво, – восхищается Рада, и я горд, что наконец-то привел ее – ну или почти привел – туда, где ей нравится.
До этого мы гуляли в странных местах. На немецком кладбище. Среди заброшенных могил, поваленных крестов, в бурьяне надгробий. По невспаханным полям, где поросший желто-зеленым мхом камень воспринимался как достопримечательность, а в ямах валялись обветренные черепа с дырами во лбу. Среди развалин конюшни, по периметру которой ржавела колючая проволока.
Конюшню строил Ярослав Панченко, приятель Эдуарда Балтина, разбогатевший на дележе Черноморского флота, списывая боевые корабли на металлолом в Индию и Китай, отдавая в бессрочную аренду флотские поликлиники, учебные центры, дома культуры. В конце девяностых Панченко застрелили. Он вышел из принадлежавшего ему торгового центра, хотел сесть в «мерседес», но из подъехавшей серой «копейки» выскочили автоматчики и, как пишут в газетах, открыли прицельный огонь. Сначала убили охрану, а затем погнались за самим Панченко, убегавшим по улице Суворова. Автоматчик почему-то не стрелял, а мчал следом. Так они и бежали, мимо витрин с шоколадками и сигаретами, облетающих тополей и предынфарктных людей. Будто решили сыграть в GTA. В газетах писали, что киллер и жертва бежали в абсолютной тишине. Точно все ждали развязки. Пока киллер в упор ни разрядил обойму.
Помню, читая об этом, я все хотел понять, о чем думал Панченко. О миллионах? О конюшне? О торговом центре? О списанных кораблях? О семье? Теперь память о нем в пыльном венке у муниципальной аптеки, а конюшня за несколько лет превратилась в руины.
Но в этот раз место для свидания выбрано четкое – у памятника гвардейцам, форсировавшим Северную сторону.
Через бухту они переправлялись на лодках, плотах, досках. Черные точки, разбросанные по морю. Фашисты располагались на обрыве. Удобно вести огонь. Море окрасилось в красный. Но укрепление захватили. Гвардейцами командовал генерал Захаров, в честь которого и названа площадь, где мы встретились с Радой. Выжившие заложили памятник – пирамидальный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой, окруженный четырьмя меньшими обелисками с колосьями на верхушках. «Гвардейцам-героям Севастополя». В темноте кажется, что памятник выполнен в мистической египетской эстетике.
Надпись на обелиске гласит: «В груди великого города будет вечно биться сердце русской славы». К ней добавились новые – уродливые, подчас варварские – письмена, нанесенные уже в независимое от советского прошлого время: «Анархия – мать порядка», «Кабан любит Лелю». Кто-то – самый ловкий, целеустремленный, дурной – ухитрился нарисовать на верхушке, под звездой главного обелиска черную свастику.
Но я привел сюда Раду не из-за памятника, а потому, что с горы, на которой поставили обелиски, открывается лучший вид на ночной Севастополь.
Перейти через ограждение, постелить клетчатый плед, усесться на краю обрыва, глядя, как накатывают волны, а у берега на якорях застыли подсвеченные красными, зелеными желтыми маячками боевые, гражданские корабли. Зрелище расслабляет. Возможно, здесь все может случиться.
Достаю термос, стаканчики, говорю:
– Я на секундочку…
Оставив Раду одну, подхожу к краю обрыва, где в можжевельнике я спрятал мастерок и дерево для сюрприза. Спрятал так надежно, – колотится, беснуется сердце – что ищу их долго, волнительно, измазываясь в грязи. Когда возвращаюсь назад с мастерком, Рада ойкает, отшатывается назад. Мне приходится говорить, успокаивая:
– Это сюрприз.
– Мило…
Помогаю Раде подняться. Она ежится, хоть и апрель удивительно теплый, набухающий почками раньше времени, струящийся умиротворяющим, сладким эфиром. Скидываю пиджак – форменный, черный в тонкую белую полоску, с классическими лацканами и рукавами, он совершенно не подходит к светлым джинсам, – накидываю его Раде на плечи. И начинаю копать. Так усердно, что, боюсь наткнуться на останки гвардейцев. Потрошу землю с пластмассой, полиэтиленом, металлом, кусками линолеума, битума в ней.
Докопав, возношу дерево, точно Прометей факел, – на морском берегу, у советских пирамид выглядит это эпично – и декламирую отрепетированную до судорог скул речь. Настроение игривое, хочется, как мужчине в самом расцвете сил, пошалить. И это настораживает, потому что, когда подобная игривость силком нацепляет маску, случается нечто пакостное. «Вечером смеешься – утром будешь плакать», – так любит повторять мама; не самая обнадеживающая родительская установка.
Рада скучает. На дерево не реагирует. И даже привязанная атласная ленточка, на которой я черным маркером округлыми, дышащими стараниями влюбленного буквами вывел «Аркадий и Рада – вместе навсегда!», не меняет приговаривающей скуки ее лица. Но я обязан держаться плана.