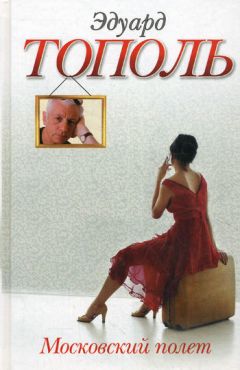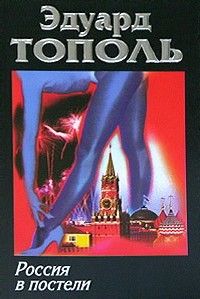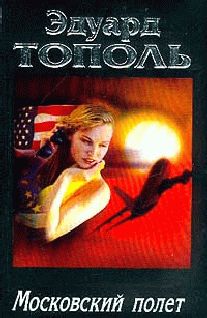– Вадим, вам срочная телеграмма! – Молоденький администратор, простуженный, как и вся киногруппа, поднялся в кабину крана и протянул мне желтый квадратный бланк.
«СВЕРДЛОВСК ГОСТИНИЦА «БОЛЬШОЙ УРАЛ» КИНОГРУППА «ЗИМА БЕСКОНЕЧНА» РЕЖИССЕРУ ВАДИМУ ПЛОТКИНУ ДИРЕКТОРУ КАРТИНЫ КОНСТАНТИНУ ЗАЙКО
УКАЗАНИЕМ ОБКОМА ПАРТИИ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЪЕМОК ВАШЕГО ФИЛЬМА ПРЕКРАЩЕНО ТЧК НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЛЕНИНГРАД СО ВСЕМ СНЯТЫМ МАТЕРИАЛОМ ТЧК НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА В 24 ЧАСА ПРИВЕДЕТ К УВОЛЬНЕНИЮ ВАС СО СТУДИИ ТЧК ДИРЕКТОР СТУДИИ ЛАПШИН»
Я сунул эту телеграмму в карман мехового полушубка – это была четвертая телеграмма: две первые мы с Костей Зайко просто проигнорировали, а после третьей Костя организовал мне больничный лист – липовую справку от врача о том, что у меня воспаление легких. Хотя само появление этих телеграмм и шквал телефонных звонков со студии говорили о том, что нужно спешить снять все, что задумано, то есть потянуть еще съемку хотя бы два дня. Любой ценой! Может быть, даже мне лечь в больницу и из больницы руководить съемками…
Но тут на «козле» прикатил Костя Зайко. Есть два сорта административных гениев в советском кино. Первые – это жулики, которые используют идиотскую бюрократическую систему кинопроизводства для денежных махинаций (например, оформляют съемку многотысячной массовки, а обходятся сотней человек и разницу в оплате кладут себе в карман). А вторая категория – подвижники искусства. Тридцатилетний Костя Зайко был из второй категории, и всю свою молодую энергию он употреблял на то, чтобы мы сделали Кино – именно Кино, с большой буквы. И если для этого нужно было в Якутии остановить работу алмазного рудника и получить на съемки все шестьдесят сорокатонных «БелАЗов», работавших в алмазорудном карьере, – это мог сделать только Зайко. И когда нужно было получить полк солдат стройбата и за неделю построить в тундре настоящий ненецкий поселок, а потом еще и заселить его настоящими ненцами, – это мог сделать только Зайко. И когда понадобилось прямо в тайгу доставить вертолетом из Хабаровска врача-гинеколога, чтобы, не срывая графика съемок, сделать аборт нашей московской актрисе, – это тоже смог устроить только Костя Зайко…
При этом он никогда не присутствовал на съемках. «У киногруппы должен быть один лидер, как в армии должен быть один командир, – говорил он. – Моя задача – обеспечить вам завтрашнюю съемку, а на сегодняшней мне делать нечего». И он свято соблюдал эту заповедь и появлялся на съемочной площадке только в самых исключительных случаях – например, когда я снимал пьяную драку бичей на зимнике (в этом эпизоде принимали участие только два профессиональных актера, а остальные сорок девять были подлинные сибирские бичи и шоферюги).
Поэтому, когда из кабины подъемного крана я увидел «козлик» Кости, подкативший из бокового переулка к проходной Уралмаша, я понял: что-то случилось. Я отлип от окуляра и нервно закурил. А внизу Костя выпрыгнул из «козла» и по узенькой лесенке стал торопливо взбираться на подъемный кран. Он был даже без пальто, а в своем стильном двубортном итальянском костюме и в белой рубашке с французским галстуком, которых у него, на зависть всей студии, было три дюжины. И вообще, мой Костя был образцом нового типа советского бизнесмена семидесятых годов – он свободно говорил по-английски, регулярно читал голливудскую газету «Вэрайити», играл в теннис, курил только «Мальборо», носил итальянские костюмы и французские галстуки и два раза в неделю бывал в сауне «Интуриста», закрытой для простых советских смертных. Но сейчас, позабыв о своем импортном лоске и даже о своих кожаных итальянских перчатках, он голыми руками спешно перебирал промороженные стальные ступеньки вертикальной лестницы, а в большой холщовой сумке через плечо он зачем-то поднимал к нам на кран металлические блины – кассеты с кинопленкой.
– Ну? – сказал я нетерпеливо, когда его голова достигла дверцы кабины.
– В Питере КГБ арестовало материал.
– Что? Что?
– Час назад на студию приехали гэбэшники, зашли в монтажную и изъяли весь материал нашего фильма, даже шумовую фонограмму, – сказал Костя, запыхавшись.
– А негатив?
– Все подчистую. На нас настучал партком студии.
У меня перехватило дыхание.
– Они отвезли материал в Смольный, Романову, – продолжал Костя и зачем-то глянул на свои ручные часы «Сейко». – Он сейчас его смотрит.
– Кто смотрит?
– Романов, дубина! Романов сейчас лично смотрит материал нашей картины!
– Откуда ты знаешь? – не поверил я.
Романов, первый секретарь Ленинградского обкома партии, был знаменит своей ортодоксальной партийной консервативностью. Я бы сказал, что он был Лигачевым эпохи Брежнева.
– Знаю, – сказал Костя. – У меня свои источники информации.
– Но что он может понять? – сказал я. – Ведь фильм еще не смонтирован, без звука!
– То, что им нужно, они понимают. Мы с тобой через сорок минут вылетаем в Питер.
Питером, то есть Петербургом, Костя всегда называл Ленинград – как многие коренные ленинградцы.
– Я никуда не полечу, я должен доснять эпизод. А потом пусть они меня хоть сажают!
– Ты не успеешь доснять эпизод.
– Почему? У нас есть пленка и допуск на завод.
– Семь минут назад свердловское КГБ получило телефонограмму из Ленинграда изъять у нас всю отснятую пленку и выгнать нас с завода. Они будут здесь через несколько минут. Скажи оператору, пусть разрядит камеры и сунет туда эти кассеты. – И Костя протянул мне сумку с принесенными им кассетами.
– А это что за пленка? – спросил я, даже не усомнившись в точности его сведений. Я знал, что в каждом городе, где мы снимали, Костя первым делом кадрил местных телефонисток. Таким образом вся киногруппа и особенно падкие на любую юбку осветители и ассистенты оператора меньше рисковали прихватить триппер, а Костя Зайко получал бесперебойную связь с Ленинградом.
– Это чистая, засвеченная пленка. – Он сунул мне в руки принесенные кассеты. – Быстрее, Вадим! Мне еще нужно подумать, как вывезти нашу пленку из Свердловска. Нас с тобой будут обыскивать в аэропорту.
– Но какой смысл спасать эту пленку, если весь фильм арестован?
Он покосился на оператора и двух его ассистентов, стоявших поблизости, и сказал мне шепотом:
– Ты имеешь дело со мной, не так ли? – И вдруг впервые за все время нашей совместной работы сорвался на крик: – Я вам приказываю сдать мне всю снятую пленку! Я представитель администрации студии!
Я изумленно уставился на него, а он добавил сквозь зубы:
– Дурак! Делай, что я говорю! Быстро!
Внизу по боковому переулку уже катили к проходной завода две черные «Волги» – верный знак свердловского КГБ. А от здания управления Уралмаша к подъемному крану бежали три каких-то типа. Они так спешили, что, как и Костя Зайко, были даже без пальто и шапок…
– Советский – режиссер – должен – знать – на кого – он – работает!
Кулак Павлаша, министра кинематографии, увесисто отбивал по столу паузы после каждого его слова. Костя Зайко сумел-таки вытащить наш фильм из Смольного и из ленинградского КГБ – он сыграл на ведомственных амбициях министра кинематографии, в дела которого вдруг вмешался Романов, «провинциальный» секретарь обкома. Но, как говорится, хрен редьки не слаще. Теперь я сидел напротив холеной морды министра, между ним и мной была лишь полированная крышка его министерского стола, а по бокам от меня сидели Николай Лапшин, директор Ленинградской киностудии, и Станислав Межевой, главный редактор сектора художественных фильмов Министерства кинематографии. Павлаш только что просмотрел материал моего фильма в своем персональном кинозале на третьем этаже министерства, а точнее – ушел с просмотра посреди фильма, после эпизода пьяной драки в общежитии сибирских шоферов. Постукивая кулаком по столу, он синхронно с ударами произносил каждое слово отдельно:
– Даже – иностранные – корреспонденты – уже – не порочат – нашу – жизнь – так – как вы – в этом фильме!.. Кто – дал – вам – право – так – снимать – нашу – жизнь?
– Я снимал по сценарию, который вы утвердили.
– По каждому сценарию можно снять пять разных фильмов. Можно снять, как рабочие идут на работу летом, при теплом солнце, а можно, как вы, – зимой и ночью! – И Павлаш повернул свою бульдожью рожу к директору студии: – Вы что – не видели, что он снимает?
– Эпизод пьяной драки можно сократить, мы предлагали режиссеру… – испуганно сказал Лапшин.
Действительно, еще два месяца назад, до ареста фильма, все руководство студии просило меня вырезать этот и шесть других эпизодов, потому что заранее знали: министр не примет фильм в таком виде. Он просто не может принять его в таком виде, ведь по вечерам в Барвихе, райском правительственном дачном поселке под Москвой, он показывает каждый новый советский фильм своему тестю – члену Политбюро Кириленко и его закадычному другу Леониду Брежневу. Именно по этим фильмам Политбюро судит о жизни советского народа. И когда им показывают, как хорошо, как замечательно живут советские люди под их мудрым руководством, как энергично и самозабвенно строят коммунизм, – авторы таких фильмов, директора киностудий и сам министр кинематографии получают премии и правительственные награды. Но если показать Брежневу, Черненко, Кириленко, Андропову, Романову, Гришину и остальной партийной хунте, что под их «мудрым» руководством страна спивается, голодает, дерется, насилует жен и природу, не верит ни в какой коммунизм и от безысходности и всеобщего вранья снова пьет, дерется и вырождается… – что будет за это министру кинематографии? Так не лучше ли ему самому запретить очередной «очернительный фильм» – и черт с ними, с деньгами, которые на этот фильм потрачены! Эти деньги можно взыскать с киностудии, которая недобдила, не пресекла, не остановила зарвавшегося режиссера.