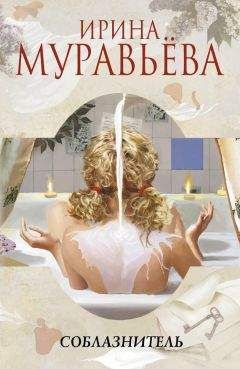– Придумала что? – побледнела Елена.
– Что я пишу книгу.
– Ах, это! – Елена махнула рукой: – Она любит книжки. Ей это приятно.
– Ну что же, придется, наверное, писать.
– Пиши. – И она побледнела сильнее. – А мне не докладывай. Неинтересно.
Он смотрел на нее и словно не узнавал в этой располневшей и неухоженной, с прекрасными, густыми волосами, кое-как подобранными под шапочку, женщине ту самую высокую и смеющуюся свою жену, на которую еще летом так заглядывались мужчины на улице, что у него непроизвольно сжимались кулаки. И сейчас, когда она, не вставая со своего стула, подняла на него измученные глаза, которые были изнутри словно бы затянуты странной белесой пленкой, у Андрея Андреича застучало сердце, и он вдруг подумал, что лучше всего им пойти бы домой и там сесть за стол, и достать коньячку, и выпить, тогда бы язык у него развязался, и он бы сказал ей: «Прости меня, милая». И Лена, жена, его сразу простила бы. Тем более ведь ничего не случилось! Ну, три поцелуя в пустой подворотне – о чем говорить? Молодой ведь мужик. Другие направо-налево гуляют, детей понаделали на стороне, и кто им хоть слово сказал? А никто.
Все это пронеслось в голове Андрея Андреича, как в небе, бывает, проносится птица, тяжелая, быстрая, взгляд успевает скользнуть по ее очертаньям, а птица исчезла уже, отпечатав свой шумный полет на зрачках человека, встревожив его, но ничем не задев, никак на судьбе его не отразившись. Он вспомнил про Веру, про эту любовь, и радость, что это не сон, не игра, а чистая правда, и все это – с ним, и все это здесь, на земле, все сейчас: ее эти губы, и слезы, и то, как вся она жадно прижалась к нему, и как засмеялась внутри поцелуя, – радость так безудержно охватила Бородина, что он, как мальчишка, смутился, поймавши тоску на лице у Елены, и страх, что эта тоска ее все вдруг испортит, клещами зажал ему горло.
Последняя неделя апреля приближалась к концу, и звуки весны на земле и на небе росли так стремительно и так менялся весь облик природы, что этого просто уже не могли совсем не заметить московские люди. И если из них кто-то был и слепым, он должен был все же услышать весну, а если глухим кто-то был, то и он был должен увидеть, как по синеве порхают согретые солнышком птицы и как на поверхности черной земли рождаются первые свежие травы.
Все без исключения люди сейчас присутствовали на большом торжестве: они вовлекались в победу над смертью, которая происходила вокруг. И если бы не были люди глухи к тому, что не слышно ушами, слепы к тому, что не видно глазами, они должны были бы улыбаться от счастья. Ведь с каждым из нас будет то же, что и с последней ромашкой в еловом лесу, с последней букашкой на тонком стволе, с последним слегка лиловатым жуком, поскольку мы все родились, как они: кто из живота материнского, кто из куколки, кто из бутона, и все мы уйдем, как они, – высоко. Мы только не знаем минуты ухода.
Сдержанный Иван Ипполитович Аксаков с самой середины апреля начал вдруг чувствовать что-то такое, что сильно мешало ему сосредоточиться. Он то раздражался из-за всякой ерунды и доходил до состояния не известной ему прежде ярости, то вдруг ловил себя на безудержном и опять-таки новом его душе желании счастья, которое должно наступить сейчас же, немедленно, и чем оно проще, грубее, тем лучше. Он понимал, что все его надежды на Ларису Генриховну не имеют под собою никакой почвы, но не выдержал и в субботу вечером зашел к своей матери, чья квартира была подле квартиры Ларисы Генриховны. Какой-то мальчишка, по виду похожий не то на чеченца, не то на грузина, присевши на корточки, аккуратно раскладывал цветы на пороге этой квартиры и сильно смутился, увидев Ивана Ипполитовича. Профессор Аксаков не был большим психологом, но выражение какого-то почти священнодействия на этом простом и чернявом лице его удивило. Иван Ипполитович деликатно отвел глаза, а незнакомый юнец, стрельнув воспаленным вишневым зрачком, сбежал вниз по лестнице, и грохот рабочих его башмаков напомнил профессору то, как с горы, по виду такой неподвижной и тихой, вдруг сыпятся камни.
Вот тут-то и посетила профессора Аксакова одна очень странная мысль: нужно сделать так, чтобы Марка Переслени не существовало. Поначалу он испугался этой мысли и даже покрутил пальцем у левого виска, натянуто засмеявшись. Но дикая мысль не ушла, а стала обрастать подробностями и, главное, становилась все более и более законной, как будто бы даже логичной, и логика эта вытекала из самого простого соображения: если не будет Марка Переслени, жизнь профессора Аксакова снова обретет тот счастливый смысл, который оборвался в летний день, когда он со своей мокрой от дождя сиренью приехал к Ларе, увидел под тонким халатиком Ларину грудь и понял, что кто-то сегодня ласкал эту грудь и мял ее жадными пальцами.
«Ведь только до этой минуты я и жил по-настоящему, – с тоской думал он, глядя на простодушные цветочки, так декоративно разложенные у двери, как будто бы дверь была памятником. – Я наслаждался тем, что дышу, и живу, и люблю, я ничего не боялся. И жить стоит только вот так. А все остальное не нужно совсем. Я обманываю себя, я с самого начала принялся обманывать себя и изображать, что мне так дорога моя работа! И только месяц назад я понял, что все это ложь. Вот Лара пришла и сказала, что ей нужна моя помощь. И я сразу ожил. И когда я рядом с ней, и слышу ее голос, и смотрю на нее, мне хорошо. Мне действительно хорошо. А все остальное… – он начал искать уместное слово. – Да, все – чепуха!»
Найдя это слово, он повеселел.
«Ужасный, дурной человек Переслени! Ведь он истерзал ее! В нем – ни жалости к ней, ни любви, ничего! Зачем он живет? Только зло приносит. Да, он проводник только зла на земле».
«Ты хочешь, наверное, смерти ему?» – спросил его вкрадчивый внутренний голос.
Иван Ипполитыч немного замялся: «Хотелось бы, в общем, его обезвредить… Но как обезвредить? И что? Самому?»
«Да много есть способов! Хоть завались! – откликнулся голос с большой охотой. – Ты можешь его хоть сейчас довести до самоубийства. Раз плюнуть, и все. А хочешь, подавим его до того, что он из психушки уже не вернется».
«Таблетками?» – хрипнул профессор Аксаков.
«Зачем же таблетками? – голос стал тише. – Ты вспомни-ка бабу Валерию. Вспомни».
И тут Иван Ипполитович начал вспоминать. Ему было тридцать три года, и он только что приехал из Лондона, где провел почти четыре месяца на очередной стажировке. Надо сказать, что, находясь в Лондоне, Иван Ипполитович чуть было не влюбился в одну англичанку и чуть было даже не сделал ей предложения. Англичанка была милой, худощавой, немного косила, но ей это шло, и Ивана Ипполитовича поразили однажды ее плечи в открытом платье, которые были так густо усыпаны веснушками, что напомнили ему родную русскую поляну, золотую от лютиков. Однако любовь очень быстро увяла, опять же напомнив и этим поляну, а в сердце Иван Ипполитовича снова, как это бывает с фотографией, на короткое время извлеченной из рамки и вновь вставленной в нее, вернулась Лариса Поспелова. После дождливого и слишком уж туманного Альбиона Москва, вся в снегу, в куполах, в суматохе веселого предновогоднего времени, обрадовала профессора Аксакова и вызвала в нем новый прилив творческих сил. Вот тут он услышал про бабу Валерию. Сотрудники института имени Бурденко кипели и спорили: одни говорили, что чушь и притворство, другие серьезно и важно молчали. Оказалось, что на Ярославском вокзале уже несколько месяцев безвыездно находилась некая женщина. Спала там, и ела, и мылась в уборной, но, поскольку это запрещено законом, к ней неоднократно обращались из милиции, предлагая добровольно покинуть столь неудачно выбранное ею место проживания. Но женщина не только не съехала, а как-то даже укрепилась, зато всех троих милиционеров, обращавшихся к ней с этим требованием, постигли несчастья. У сержанта Алексеева жена оказалась беременной, но это никак не имело отношения к самому сержанту, поскольку он год жил в Мытищах у матери, сломавшей себе позвоночник, и вовсе с женой своей Любой интимно не виделся. У второго сержанта, Бородовского, применившего к неизвестной физическое насилие, погиб под колесами поезда сын. А третий запил и ушел из семьи.
Нейрофизиологи, по природе своей вдумчивые и бесстрашные люди, прослышали об этой странными особенностями обладающей женщине и в составе целого отдела по изучению «гипнотических методов воздействия на окружающих и телепатии» прибыли на Ярославский вокзал. Опасным существом, поселившимся в зале ожидания, оказалась худенькая, похожая на лисичку Валерия Петровна Курочкина, назвавшая себя при первом знакомстве «бабой Валерией». На худенькой спинке у Валерии Петровны располагался небольшой горбик, который издали можно было принять за рюкзачок, а светлые волосы, сплетенные в косу, обвивали ее голову невинным веночком. Радостно улыбаясь маленьким морщинистым ртом, Валерия Петровна тут же доложила любознательным ученым, что с самого младенчества своего отдалась дьяволу, о чем нисколько не жалеет. Следов безумия в свеженьком лице ее не было никаких, а, напротив, была какая-то даже спокойная сосредоточенность, как будто ей только того и хотелось, чтобы медицинские служащие приняли ее всерьез, иначе никакого делового разговора с ними не получится. Тут же она рассказала и всю свою незатейливую, хотя зловещую историю. Родилась Валерия Петровна неподалеку от Москвы, а именно в деревне Дырявино, но не от простых каких-нибудь мучеников села, а от интеллигентных людей: фельдшерицы Алены Игнатьевны и специалиста по лошадям Петра Ильича Курочкиных.