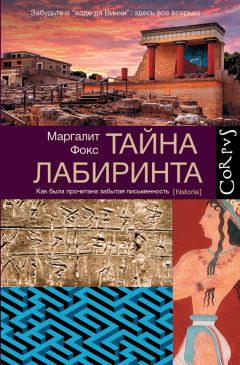– И на смертном одре вспомню две вещи: как похмелялись с отцом на речке утром, и второе… как опять похмелялись…
А ему:
– Да иди ты! С вечера про похмелье!
А он:
– Что ты понимаешь в духовном вопросе, убоже?
А ему:
– А для тебя это никак не врубается?! Щас врубим!!
И пошло-поехало, с ровного места в откос. И пр.
Тогда я сжимался, как раненое животное, и тихо страдал.
Впрочем, некоторые относились ко мне почтительно. Ну как же, интеллигент, куда нам. Один такой иногда тыкал в меня растопыренной пятерней с синей наколкой «Жизнь всему научит» и восторженно говорил вновь прибывшему соседу:
– Это такой, знаешь, у нас человек, у-у. Вот смотришь на него и… все видишь! Как Путин.
Потом врубали музыку, танцы, Райка поднималась, оглаживая себя по бедрам:
– Пойду, что ли, потопаю, повиляю попою.
– Ну куда, ты выпила, идем домой уже.
Она вырывала руку, кокетливо заявляла:
– Все, я тебя не знаю, я пошла знакомиться.
И уносилась в прыгающую толпу, из которой выскакивала время от времени, только чтобы хлебнуть вина. А я не плясал. Не умел, не хотел. И поэтому либо пил, чтобы не скучать, либо скучал, чтобы не пить, но, как бы то ни было, веселье пролетало мимо меня. И одна только грусть оставалась надежным собутыльником и собеседником до самого конца.
Тот вечер ничем не выделялся в череде однообразных праздников, примитивных и безобразных, как дешевая роскошь «парижского» застолья с липкой семгой, плохо вымытой посудой, рулетами из баклажан, тефтельной подливой, тухлым пивом, навязчивыми скрипачами с их угодливым репертуаром. Все шло как обычно, как хвост бесконечного каравана. Раиса была весела, некапризна и взвинченна в той мере, в какой веселы и взвинченны были все. Она хохотала, пила шампанское и мчалась танцевать, держа за руки своих подруг – веселых, взвинченных, незлобивых, лишенных подбородков, зависти и амбиций. Им хотелось праздника – чего в том плохого?
Я не видел, как Раиса выбыла из толпы. Танцы были в разгаре, и находиться ей в общем-то следовало там. Она незаметно приблизилась, спокойная, необыкновенно тихая, и села рядом. В лице у нее появилось что-то сразу удерживающее внимание, такое, как если разговариваешь, смеешься, и вдруг – раз! – замираешь на полуслове. Она налила стакан сока, выпила. Потом сказала:
– Все. Я беременная.
Я не расслышал:
– Что ты?
– Беременная, вот что.
– Ты, как это… наплясала себе, что ли? – неловко пошутил я.
– Уймись.
По дороге домой мы молчали. Не хотелось говорить. Вернувшись, она, одетая, легла на постель и повернулась лицом к стене.
– Ты это серьезно? – уточнил я, сомневаясь, не следует ли воспринимать происходящее юмористически.
Она не ответила. Тогда я сел на постель и спросил:
– Чей ребенок?
– Мой.
– В смысле – от кого?
– Не знаю.
– Может… это мой?
– Нет, – ответила она.
Я ждал, что она продолжит, но не дождался.
– А чей?
– Мой.
– Как это – твой?
– Он тебя не касается. – Она замолчала. Спустя время сказала: – Он никого не касается. Никого. – И прошипела себе под нос: – Будьте вы прокляты все.
– И сколько уже?
– Сколько надо. Все мои… Чего тебе?
– Ты что, рожать собралась?
Она повернула ко мне злое, набрякшее лицо и выкрикнула:
– Да!
– Понятно. Выходит… срок уже?
– Ну чего ты мне душу мотаешь? Срок – не срок. Какая разница? Буду рожать. Понял? Мне муж не нужен.
– А я… я нужен?
– Теперь никто не нужен. Никто.
– Хорошо.
Тогда я разделся и лег спать.
На другой день Райку как подменили. Меня разбудило мирное погромыхивание посуды, доносившееся из кухни, и запахи. Раиса варила овсянку. Мы никогда не ели овсянку, я даже не знал, что она у нее есть. Стол в кухне пылал под лучами утреннего солнца, и каша дымилась на этом пылающем столе. Мы мирно позавтракали. Я не вспоминал вчерашний разговор, помалкивала и она. Но что-то новое, незнакомое мне явственно проступало в ее посвежевшем облике, в ее задумчивой молчаливости, в ответах невпопад и не сразу. Как будто провели раскрытой ладонью по запотевшему стеклу.
Потом она собрала сумку и ушла, а когда вернулась, то просто светилась от какой-то тихой и затаенной радости, которой не намеревалась ни с кем делиться. Я хотел приобнять ее, но она мягко отстранилась с кривой, отчужденной полуулыбкой на губах.
Теперь Раиса знала, что делать. Она вымыла квартиру, заполнила холодильник зеленью, фруктами, купила новое постельное белье, выбросила старое, постирала занавески, раздала кое-какие долги, отключила телефоны. Что могла, то заменила, что считала нужным, отдала, словно хотела очиститься. Если не суетилась по хозяйству, то большее время лежала, уставив глаза в потолок. Для нее это было чем-то вроде рубежа, разрыва с прошлым, и в каком месте этого разрыва отныне находился я, пока оставалось загадкой. В любом случае это делалось не для меня, уж точно, я был ни при чем. В ней появилась отстраненность, замкнутость; казалось, ее внимание – все, без остатка – опрокинуто внутрь себя, всем изнервленным существом обращено к тому, что принадлежало ей одной. Несколько раз я замечал, что она разговаривает с собой или с кем-то там, не знаю. Или просто сидит, сложив руки на животе, – неподвижно, с ласковым, тихим лицом, – так в ее сознании, видимо, выражалось материнство. В этом было что-то детское, похожее на игру. Ясно, что Раиса ждала своего ребенка, ждала изо всех сил, хотя никаких изменений в ее фигуре пока не наблюдалось. На все мои попытки коснуться этой темы (в конце концов, в какой-то мере все это относилось и ко мне) следовала в общем-то одна реакция – добрая, смиренная глухота.
Лишь однажды на мой вопрос, кто все-таки будущий отец, она вдруг ответила:
– Не имеет значения. – И затем добавила: – Для нее не имеет.
Я удивился:
– Почему ты думаешь, что будет девочка?
– Я знаю.
Даже гуляя перед сном – а теперь перед сном мы гуляли на бульваре, – Раиса, похоже, со всевозрастающим трудом выносила мое общество. Она держалась отдельно и шла либо впереди, либо сзади, но не рядом со мной. Наше общение свелось к незначительным междометиям касательно продуктов питания и выстиранного белья.
Она дышала свежим воздухом перед сном так, как выздоравливающий больной дышит кислородом. И казалось, что новая, светлая жизнь уж притаилась за поворотом с хлопушками, трубами и кремовым тортом на колесах. Но я знал, что изнутри ее жжет слепая тревога, я видел, как испуганно затаилась она перед неведомым, грозным счастьем, какого она никогда еще не встречала.
Признаться, я тоже сделался задумчив. Но по другой причине. Покоя мне не давал вопрос: что делать, если она родит моего ребенка? Тем более что я очевидно мешал, я занимал место в ограниченном пространстве чужого мирка. Почему-то у меня не возникало сомнений в том, что рано или поздно Раиса ответит на мои вопросы, если, конечно, раньше не выставит меня за дверь. А у нее, похоже, уже руки чесались.
Что будет, если я окажусь на улице, странным образом меня не волновало. Хотя к такому развитию, конечно, был не готов. Я словно отделил себя от своего бренного тела, и эта раздвоенность не вызывала во мне никаких других чувств, кроме равнодушия.
Из всего арсенала имеющихся у нас средств к самоспасению наиболее доступное и трудное – не думать.
Так продолжалось не очень долго.
Все кончилось недели три спустя. Я стоял на балконе и тупо разглядывал в сгущающихся сумерках группу подростков, которые уединились в кустах с явным намерением зарядиться ганджой, как вдруг сзади донесся еле различимый, глухой всхлип. Почуяв неладное, я вернулся в комнату. Кровать стояла в углу, и единственное, что различалось в полутьме, – сидящая на кровати фигура Раисы. Приблизившись, я тихо спросил, все ли у нее хорошо. В ответ – ничего. Повторил вопрос – тишина. Меня охватила зябкая неуверенность, поскольку она так и оставалась беззвучна и неподвижна. Тогда я зажег свет.
Раиса сидела спиной, голая, скорчившись в какой-то изумленной позе, как будто ее столбняком пригнуло книзу, так что лопатки выпирали бройлерными крылышками. Я взял ее за плечо и отодвинул в сторону – на свежей простыне темно-красными сгустками было разбросано нечто такое, что, по всей видимости, еще минуту назад составляло часть ее плоти. Раиса открыла рот и в беззвучном крике повалилась на бок.
Я заметался. Кинулся к двери, вернулся, чтобы накрыть ее простыней, снял трубку телефона, но он был отключен, потом выбежал на лестничную клетку и сквозь стекло увидел идущего Никодима. Я выбил локтем стекло и крикнул ему… что-то крикнул и ринулся назад. И пока Никодим грозным шагом мерил тесную прихожую и по мобильнику своему вызывал скорую, Раиса лежала в постели и смотрела на меня с такой ненавистью, что у меня кожа горела. Потом плюнула.
Врач, пожилая женщина, откинула одеяло, посмотрела, затем набросила одеяло обратно и села готовить документы на госпитализацию. Райка глядела на нее с безразличным оцепенением и ничего не отвечала. Наконец, почувствовав, должно быть, на себе ее пустой взгляд, врач сказала: