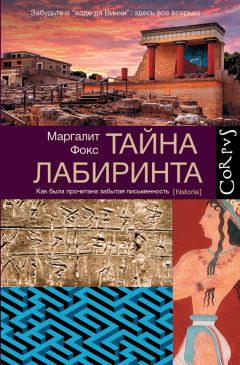Я заметался. Кинулся к двери, вернулся, чтобы накрыть ее простыней, снял трубку телефона, но он был отключен, потом выбежал на лестничную клетку и сквозь стекло увидел идущего Никодима. Я выбил локтем стекло и крикнул ему… что-то крикнул и ринулся назад. И пока Никодим грозным шагом мерил тесную прихожую и по мобильнику своему вызывал скорую, Раиса лежала в постели и смотрела на меня с такой ненавистью, что у меня кожа горела. Потом плюнула.
Врач, пожилая женщина, откинула одеяло, посмотрела, затем набросила одеяло обратно и села готовить документы на госпитализацию. Райка глядела на нее с безразличным оцепенением и ничего не отвечала. Наконец, почувствовав, должно быть, на себе ее пустой взгляд, врач сказала:
– Чего смотришь? Лбом стену не прошибешь. И нечего убиваться так. Его у тебя и не было. А если был, так он уже в раю. Не горюй.
Они ее увезли, а я остался с Никодимом, единственным близким мне существом. Я оглядел залитую желтым светом, опустевшую комнату, смятую постель.
Нет. Это даже не сон. А какое-то впечатление. Впечатление вдребезги разбитой тарелки, подумал я.
В Измайловском парке, в глубине леса, горел незаконный костерок. В углях костерка пеклись восемь увесистых картофелин. По кромке стояли уже разогретые три банки с тушенкой, бутылка водки, стаканы и хлеб, нанизанный на сучки и слегка подпаленный в пламени. Кругом нависала тьма глубокой ночи. И никакие посторонние звуки не заглушали хриплой болтовни Никодима.
– Мошка́ жрет когда? Когда теплая, спокойная погода, после дождя. Она лезет куда? Где задержаться ей, как клещу. Портянок навертишь – вот туда тебе мошка налезет и грызет. И еще комары, зараза. У нас был мужик, физик мы звали его. Он вот как сядет, вот так, и его не видно. Сплошь комары, вся спина. Так и весь человек. Ничем человек от этой гниды не отличается. Кроме, что и целит метче, и жалит жарче. Иногда такая мысль лезет, ребята, что все мы в дураках. Что сидит кто-то там, потягивает виски, курит сигарку и посмеивается, как мы тут суетимся по головам друг у друга. В коробке, которую он смастерил.
Разинув щербатые рты, слушали его подобревшие ханыги, присмиревшие в ожидании очередного стакана. А Никодим все проповедовал:
– Кому на часы кинуть или на це́почку – все равно, что на человека – одна бодяга. У нас, бывало, и того нет – часы выше. Не, так не годится. Милосердия нету в людях. Вот что плохо. Добрые – все. А милосердия нет.
Странно было слышать такое от жулика.
Наконец, выпили. Отдышались. Кверху от костра снопами взмывали рыжие искры. Сделалось хорошо, спокойно. Никодим сверкнул в мою сторону блестящим глазом и хлопнул по спине:
– Чего нос повесил? С женщинами всегда так – нельзя с ними очень. Надо держать расстояние. Надо как тот румын.
– Какой еще румын?
– Чего, не рассказывал? Ну! Слушай. Во время оккупации в Одесской области одна женщина – мне ее дочь показывали, живая такая, тихая старушка – так вот, спуталась эта женщина с румыном. А когда отступать стали, давай проситься: возьми с собой да возьми. Он ей: куда я тебя возьму, армия! Она и слышать не хочет, чуть слово – в рев, очень за ним тянулась. Тогда он говорит: ладно, возьму, только ты давай залезь-ка в мешок, а я, значит, тебя как багаж возьму, а потом, как поезд поедет, выпущу. Ну, она обрадовалась, прыг в мешок – и сидит. Тихо так, не шевелится. Поезд поехал, а мешочек так на станции и остался, пока люди не задумались.
– Выдумал, старый брехун?
– Почему выдумал? Пример показал. Не стоит к женщине уж очень близко прислоняться, не надо. Живи отдельно.
– Гм.
– Я тебя шо-ки-ро-вал?
– Напротив. Ты помогаешь мне думать.
– Э-э, не путай божий дар с яичницей. – Он с удовлетворением огляделся. – Хорошее место. Здесь меня не найдут. Уедем, брат? Вот так, как с куста. Возьмем и уедем. А?
Побренчали на банджо: Никодим – лихо, «Одинокого ковбоя», с душой; я – кое-как. Выпили еще и разошлись кто куда.
Через три дня Раису выписали. Я встретил ее перед больницей. У нее изменилась походка, стала мелкой и неуверенной. Я подумал, может, ей операцию сделали. Но нет, не было операции. Почистили что-то там и отпустили. Раиса мне не обрадовалась, но и не оттолкнула от себя, чего можно было ждать после всех событий. Лицо у нее потемнело, осунулось. Она заметно подурнела. От прежнего шика не осталось и следа.
Мы добрели до дому. Я предложил зайти в магазин за продуктами, она отказалась. Она вообще отказалась есть. Только пила воду и чай, в который я подмешивал сахар. Дома легла, подтянула колени к груди и так пролежала очень долго. Не плакала, молчала и не спала. Доктор сказал мне, что детей у нее, скорее всего, не будет. Боюсь, он сказал это и ей. Еще сказал, что необходима операция, деньги. Но денег не было. А главное, не было никакой заинтересованности в своей судьбе у самой Раисы. Я старался не трогать ее. Время шло. Я не знал, что делать.
Глубокой ночью я проснулся от каких-то близких тупых ударов. Плохо соображая, машинально включил светильник над головой. Раиса сидела прямо, повернувшись к стене, почти прижавшись к ней лицом.
– Что с тобой? – выдохнул я. – Ты почему не спишь?
Плечи ее приподнялись, примяв прекрасные длинные волосы. Она чуть помедлила, будто собиралась с мыслями, сделала глубокий вдох и лишь затем повернулась ко мне. В груди моей образовалась свистящая пустота. На меня смотрели широко распахнутые прозрачные глаза в густом обрамлении влажного, кровавого месива, в которое отчего-то превратилось все ее лицо. Из черного пятна на стене книзу ползли алые струйки. Я медленно подтянулся на руках, чтобы упереться в спинку кровати.
Она указала пальцем на стену.
– Там рай, – произнесла она, с трудом удерживая волнение. – Там мой ребенок. Я хочу к нему.
И, повернувшись, принялась размеренно, с чавкающим стуком ударять лбом о бетонную стену, пока я не стряхнул с себя одурь и не повис на ней, с усилием преодолевая невероятное для такого слабого создания яростное сопротивление, и не спеленал ее в перепутавшиеся, окровавленные простыни. Потом я запихнул ей в рот край полотенца и до утра просидел на кровати возле нее, зажав в кулаки свои волосы. Никогда в жизни мне не было так тяжело.
Ее упекли в филиал дурдома при Склифе, что-то вроде предварительного заключения. Веселенький такой домик на отшибе в окружении берез и клумб с анютиными глазками. Больные гуляют, врачи. Мне не сложно было его отыскать, но по глупости, а точнее, по неразумию я приперся в семь вечера, к тому же в пятницу, то есть в максимально неприемные часы. Регистрация была закрыта. Мне повстречалась одна-единственная старуха, вся в бородавках, хромая, низкорослая, которая катила перед собой тележку с, может быть, анализами, такая прямо-таки придуманная старуха. Я спросил, как мне повидать больную. Старуха показала на закрытое окошко регистрации и вызвала лифт, но не вошла в него, а хрипло каркнула:
– Пятьсот рублей!
– У меня только двести, – признался я.
– Ладно, давай.
Мы поднялись на третий этаж. Когда дверцы лифта закрылись, старуха сказала:
– Только, чур, на меня не показывать. Если что.
– Не вопрос, – легкомысленно согласился я.
Она спросила фамилию больной, потом открыла дверь, захлопнула ее, щелкнул замок, и уволоклась вдаль по белому коридору. И тут я заметил, что на двери нет ручки. Нехорошее чувство зашевелилось у меня внутри. Поскольку бабка не сказала, где мне подождать, я так и стоял возле двери, которую невозможно открыть. Мимо ходили люди в больничных халатах, и от каждого, видимо, можно было ждать чего угодно. Я старался не встречаться ни с кем взглядом. Просто стоял, словно голый. И тут меня посетила мысль, что никто не знает, куда я сегодня отправился, и что, если такое возможно, меня легко могут задержать здесь в качестве пациента на абсолютно законных основаниях, поскольку пропуска у меня нет, я торчу здесь один, и никто нигде даже не чухнется. Все равно ж ничего не докажешь. А начнешь доказывать, никто не поверит, еще и свяжут, чего доброго. И не позвонить никому – телефона-то нету. К тому же у меня не было уверенности в том, что я и в самом деле нормальный, поскольку собственные мысли иной раз вызывали у меня недоумение. В общем, я испугался.
Наконец появилась старуха, молча завела меня в комнату с окнами в мелкую сеточку и оставила одного. То ли от жары, то ли со страху пот градом катился по моим щекам. На окнах, кстати, также отсутствовали ручки. Открылась дверь, и вошла Раиса. В ту же секунду меня пронзил стыд, о котором буду помнить всегда. У нее до самых глаз была перебинтована голова, руки кутались в рукава халата, халат не по росту, велик, отчего сама она выглядела маленькой и жалкой. А я думал о себе!
Вечный страх бесправного червяка, которого если раздавят, то походя.
Скользнув по мне взглядом, Раиса пересекла комнату и села на стул. Она сдвинула колени и уткнула в них крепко сжатые кулаки. Отвела лицо в сторону и сразу раздраженно заговорила: