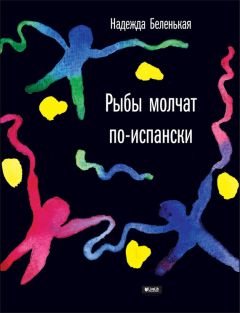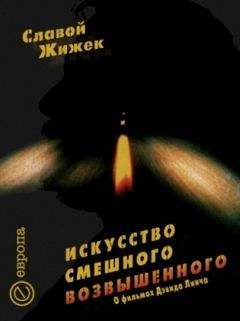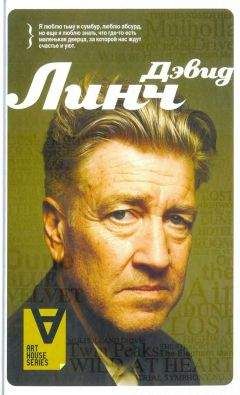– Есть истинные гении, а есть изображающие гениев, – рассказывала Востокова. – Думать, что одно хорошо, а другое плохо – заблуждение: имитация тоже может быть гениальна. Лорка был гением, а Дали – всю жизнь только лишь имитировал гениальность. Старательно и последовательно, как истинный каталонец.
– Значит, он не был действительно гениален? – спрашивал кто-то.
– Гениальны в итоге оба, каждый на свой манер. Только не стоит путать гениальность и талант, – добавляла Востокова. – Талант можно развивать. Возделывать, обрабатывать, как жирную почву. А гениальность – это другое: ее не полить и не вскопать. Она как смех или какое-нибудь дежавю – неуловима, капризна и часто бессмысленна. Потрескивает себе, как атмосферное электричество – ни лампочку зажечь, ни дом обогреть.
Два академических часа Нина жила мелодиями и красками мира, созданного Лоркой, словно ей открывались потайные пространства, где навсегда пребывают живыми его несравненные, непереносимые стихи.
И наконец, она увидела последнюю ночь, когда Лорку убили.
Принято считать, что ночь стояла звездная, светлая, высокая, что квакали лягушки, шелестели оливы и сверкала в полнеба луна, как в «Цыганском романсеро», – настоящая ночь стихов Лорки. На самом же деле луна в ту ночь была на ущербе, было облачно, непроглядно, и убийство величайшего в мире поэта совершалось в кромешной темноте.
«Я никогда, никогда не состарюсь», – писал Лорка в одном письме. Он оказался прав.
Под конец лекции, медленно возвращаясь в аудиторию и вместо оливковых рощ Андалусии уже различая перед собой сутулые спины студентов, Нина не умела точно объяснить, что с ней произошло.
«Севилья ранит, Кордова хоронит», – ударяло в висках, пульсировало в деснах, и Нина догадывалась, что существует нечто огромное, не похожее на знакомые академические дисциплины – уютную фонетику, сравнительное языкознание и зарубежную литературу: это были вдохновение, печаль и горечь, которые она в тот день пережила. И что, вопреки всему, не надо бояться усталых тяжелых слов – «пепел», «сердце», «роза» или «смерть», – надо просто услышать их заново.
Нина не считала себя одаренной студенткой. Она училась посредственно, и большинству преподавателей не составляло труда поставить ее в тупик каким-нибудь каверзным вопросом. Она ничем не выделялась среди прочих, но однажды в сентябре, когда группа российских студентов вернулась из Испании, Востокова, организовавшая эту дорогостоящую поездку, попросила каждого написать небольшой очерк о своих впечатлениях.
Нинино эссе целиком посвящалось экскурсии в Гранаду и поселок Фуэнте-Вакерос, где родился Лорка. Заканчивалось это немудреное сочинение такими словами:
«…Федерико Гарсиа Лорка – очень печальный поэт. Даже рифмы к его фамилии печальные, сиротские: Лорка, хлебная корка, каморка. Хлорка тоже до ужаса грустное слово. Известно, что рядом с домом, где родился Лорка, растет тополиная роща. Лорка эту рощу любил, в детстве он разговаривал с тополями, потом много про них писал («И тополя уходят, но след их озерный светел, и тополя уходят, но нам оставляют ветер», и т. д.). И вот этим летом выяснилось, что тополя в любимой роще Лорки посажены не вразнобой, как обычно, а грядками, как свекла или морковь. Длинными-длинными, абсолютно безнадежными грядками, исключающими всякие пешие прогулки. Тополя на этих грядках действительно куда-то уходят – ровно друг за другом, дыша друг другу в затылок. Но гулять среди них никак нельзя – они почти сплошные, с небольшими расстояниями между рядами. Как сиротская кошка из песни, у которой четыре ноги и которую трогать не моги».
Пробежав глазами текст, Ева Георгиевна нахмурилась, сложила листок пополам и оставила у себя.
Через некоторое время, к большому удивлению студентов и преподавателей, Нина Корецкая стала единственной в группе, кого Востокова взяла под личную опеку: руководила курсовыми, потом дипломом.
Она одобрила тему Нининой диссертации, устроила ей стажировку в Испании, в будущем обещала место на кафедре зарубежной литературы, а пока – временно – предложила скромную работу преподавателя испанского языка.
И теперь говорить с Евой Георгиевной о новой работе было страшно. Но что будет, если в один прекрасный день Нина не сможет найти замену? Тогда останется одно: сорвать поездку, подвести испанцев, Кирилла и Ксению. Нельзя людей подставлять, думала Нина. Пора поговорить с Востоковой.
* * *
Отправив толстуху Клару и Свету в Испанию, Нина вернулась домой. Накануне они договаривались с Максом, что Нина поедет к нему, но она отменила встречу – сил у нее оставалась только чтобы добраться до дома.
В квартире было тихо. Нина слышала, как на кухне тикают часы. Мать сидела у себя в комнате, уткнувшись в монитор. Рассказывать ей о Свете, делиться впечатлениями смысла не имело. Мать была ужасно занята: она сдавала очередную научную статью и, кажется, даже не заметила, что дочери два дня не было дома.
– Мам, привет! – кричит Нина.
Мать сидит к ней спиной, неподвижно глядя на экран. Из коридора Нина видит неживое мерцание монитора, седой затылок и штопаную вязаную кофту, которую помнит с детства.
– Привет. На плите картошка, сосиски в морозилке, – отзывается мать, не поворачивая головы. – Заодно на мою долю разогрей.
Нина поджарила картошку, бросила в кипящую кастрюлю твердые заиндевелые сосиски и поужинала одна, отлично зная, что мать придет позже, торопливо съест остывший ужин и с чашкой чая вернется к компьютеру.
Нинина мать Зоя Алексеевна Корецкая была зоологом. И не просто ученым, а настоящим подвижником.
Лето она проводила в экспедиции на Крайнем Севере, остальное время преподавала студентам и обрабатывала собранный за лето научный материал.
В воспоминаниях Нины навсегда остались пустые интервалы летнего одиночества. Интервалы повторялись ежегодно и длились два месяца, с июля по сентябрь, когда маленькую Нину сдавали бабушке, и она, временно осиротев, с утра до вечера бегала по бесконечным авеню и стритам дачного кооператива, расчесывала комариные укусы, собирала в банку жуков для коллекции и все время тосковала о матери. С тех пор лето пугало Нину бесплодным ожиданием, которое когда-то ей ничем не удавалось заполнить – ни коллекциями насекомых, ни книгами, ни играми с соседскими детьми.
С Нининым отцом Зоя Алексеевна разошлась по взаимному согласию обеих сторон – мирно и, что называется, цивилизованно. Наука не оставляла времени и чувств ни друг на друга, ни на семейную жизнь и, стоило Нине подрасти, отец переехал с «Белорусской» на самую окраину Москвы к своей матери.
Темой научных исследований Зои Алексеевны были морские млекопитающие, акустические сигналы, которыми обмениваются тюлени, моржи, котики и нерпы, живущие на Крайнем Севере у ледяной воды. На своих лежбищах среди камней они переговариваются между собой, как люди. Самец ревет, как бык, – он охраняет территорию и свой гарем от других самцов, сообщает самкам о желании совокупиться, предупреждает лежбище об опасности. Самки окликают детенышей, детеныши отзываются на их призыв.
Зоя Алексеевна карабкалась к своим животным по скользким камням и записывала их на магнитофон. Магнитофон с голосами животных был для нее важнее собственной жизни. Однажды она рассказала Нине, как причаливала на катере к дикому скалистому берегу, где водились котики. Когда катер был метрах в двадцати от берега, его накрыла смертельно опасная фронтальная волна, маленькое цунами, которое иногда прокатывается по спокойному морю и всей громадой налетает на берег. Катер тут же затонул – мать даже не успела испугаться и только удивилась, с какой скоростью пошла ко дну плавучая посудина и как она, оказывается, ненадежна, – и в следующий миг оказалась по шею в воде. Ей сказочно повезло. В ее пользу сложилось множество обстоятельств, как будто специальный ангел-хранитель, покровитель зоологов-полевиков, подобрал их заранее и прицепил одно к другому: катер затонул у берега, был отлив, и вода стояла невысоко, так что мать спокойно дошла до прибрежных камней, всем телом расталкивая тяжелую черную воду, а на берегу уже собрались другие члены экспедиции, которые помогли ей вылезти на берег, развели костер, напоили горячим чаем. Если бы одно из благоприятных обстоятельств случайно выпало из ангельской цепочки, Зоя Алексеевна могла погибнуть: июльская температура воды в море Лаптевых – шесть градусов.
Но больше всего в рассказе Нину поразил самый первый миг, когда катер перевернуло: мать стоит в воде, которая доходит ей до подбородка, и, вытянув руки, держит над головой магнитофон с голосами животных.
Материных морских млекопитающих Нина с детства не любила. Не понимала, каким образом холодные малоподвижные твари могут так глубоко и прочно завладеть сознанием взрослого человека. Как-то раз, еще в детстве, она слышала от матери, что трупы умерших котиков или моржей так и валяются на берегу и остальные животные даже не думают их избегать – наоборот, с удовольствием залезают на раздутые туши и преспокойно греются в тепле интенсивного гниения, скопившемся внутри умерших соплеменников. Малыши играют мертвыми детенышами, а со взрослых трупов скатываются в воду, как с горки.