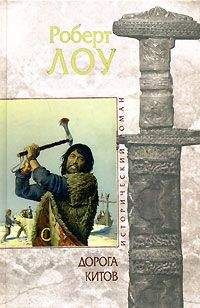Понятно, что он ничего такого не произнес. А с ее уходом и чувство победы куда-то исчезло; да и была ли победа? Мать в эти дни несколько раз ходила к директору школы, писала объяснительные, а дома глотала корвалол вперемешку со слезами и умоляла вначале обрести свой круг общения, а уж потом высказывать спорные мысли.
– Почему сейчас нельзя? – хорохорился Женька.
– Потому! Уже пытались прыгать выше головы, только ничего не получилось!
– Кто пытался?
– Неважно кто! Хороший человек! А теперь от этого человека что осталось?! Тень, пародия! И ты можешь стать тенью, если получишь волчий билет. Знаешь, что это значит?
Что дороги перекрыты, а значит, бери лопату – и в дворники!
Ей с трудом удалось отстоять сына. Наблюдая за ней, Женька видел подрагивающие руки, что перелистывают тетрадки, и думал: когда он уедет, матери будет плохо. Те же тетрадки, та же дача, и надо все самой, даже в магазин никого не пошлешь. Она, конечно, будет писать письма и точно так же станет просиживать часами на переговорном пункте, но единственная опора все-таки исчезнет. Жалел ли он мать? Жалел, но отдаваться слезливому чувству себе не позволял. Жалость подрезала крылья, стреноживала, навсегда привязывая к ненавистному пространству с его заводскими трубами, убогим парком и Советской улицей, по недоразумению именуемой Бродвеем.
Новый круг общения он обрел в среде букинистов. Время от времени Женька ездил в центр, где возле магазина старой книги толпились любители словесности, обмениваясь раритетными изданиями. А поскольку в его библиотеке имелись «дубли», он тоже активно ввязался в книгообмен, обретя в короткий срок и «Моби Дика» Мелвилла, и «Мастера и Маргариту» Булгакова.
В расположенном по соседству сквере Олеко Дундича тоже обменивались книгами, но, как выяснил Женька, совсем другими. На укромных скамейках из рук в руки передавались запрещенные издания. Передавались, понятно, проверенным людям, в числе которых Женьке очень хотелось оказаться.
К посвященным его приобщил библиофил по фамилии Стоцкий, всучив затрепанную роман-газету с публикацией «Одного дня Ивана Денисовича». Роман-газета была завернута, в свою очередь, в газету «Правда», но везти ее в открытую Женька не решился – спрятал за пазуху. Стоцкий наказал: никому не показывать, в чужие руки не давать; только Женька и сам был не дурак. Увидь такое мать, пришлось бы вызывать неотложку, поэтому роман-газета была надежно запрятана в недра раздвижного дивана.
От осознания того, что затрепанное издание, из которого вываливались листы, было запрещенным, пересыхало во рту. Всего-то буквы на бумаге, а какая сила! Автора запрещают? Значит, боятся; а тогда тот, кто умеет сочинять, велик и могуч, он почти бог, жрец и маг!
Само чтение, однако, разочаровало. Лагерь, его вонь и тлетворный дух вызывали отторжение – Пряжск и без того был заполнен блатарями, как старая мебель клопами. Осталось разве что убежденность, что слова обладают скрытым могуществом, главное – уметь ими пользоваться.
Потом опять был сквер, Стоцкий и быстрые взгляды по сторонам: дескать, не пасут ли нас? Эта игра взрослых людей завораживала, поднимала Женьку в собственных глазах и увеличивала весомость изданий, по каким-то причинам опасных для властей предержащих. Получив завернутую в очередную «Правду» (то была тонкая игра символов) книгу Анатолия Кузнецова с комментарием: «Это перебежчик», Женька тут же ее спрятал. Он вроде как получил на время бомбу с часовым механизмом, которая может рвануть в любое время. А значит, получил могущество, пусть и неочевидное для других.
Пока же он поинтересовался книжкой «Могила Таме-Тунга», точнее, ее продолжением. Библиофил взглянул на него с удивлением.
– Что вы так смотрите? – смутился Женька. – Я понимаю: книжка детская, я так просто спросил…
– Да не такая уж детская… – проговорил Стоцкий. – Просто я не знал, что вы интересуетесь оккультизмом.
– Оккультизмом?! Но это же обычная беллетристика!
– Не обычная. То есть на первый взгляд все нормально, а копнешь глубже – такое найдешь… Поэтому ее тоже из продажи изъяли. И первый том, и продолжение, о котором вы спрашиваете.
Сбитый с толку, Женька задумался. Он чувствовал, что в книге таится что-то необычное, дающее то самое могущество, силу, но в глубине души в это не верил. Оказывается, так и есть!
– Так нужен второй том или нет? Если честно, я думал: вы – представитель инакомыслящей молодежи. Но если так…
Женька сглотнул комок.
– Нужен, – проговорил глухо. – Очень хочу почитать.
Втиснутая в безликий коричневый супер, книга не привлекала внимания. Ее не требовалось заворачивать в газету «Правда» и при желании можно было читать даже в троллейбусе, когда возвращался в Новый городок. Но в троллейбусе он читать не стал – раскрыл книгу дома. И просидел до позднего вечера, вычитывая между строк то, что хотел сказать хитроумный автор, запрятавший в беллетристический кокон иное содержание. Во втором томе разъяснялось, что мир, согласно учению Таме-Тунга, это большая книга, и писать ее волен любой человек. Петроглифы на камнях, сброс их в бурную реку, символизирующую бесконечный поток жизни, и есть род такого писания. Высеченный текст входил в мировой кругооборот, и в итоге все, что было написано, сбывалось. А если не сбывалось, значит, писавший не вложил душу в то, что высекал на кусках известняка.
Прочитав об этом, Женька задумался. А он в свое время – всю душу вложил? Или то было обычное мстительное чувство подростка, которого обидели? Он не забыл, как его опозорили, хорошо помнил бумагу с текстом и огонь, уничтожавший написанное над раковиной. Вошли, интересно, те писания в мировой кругооборот? Месяц за месяцем он наблюдал в бинокль омерзительного Зему и с удовлетворением отмечал, как спивается вожак и лишается в бесконечных драках зубов. Скоро, думалось, наступит час расплаты, недолго ждать!
Хотелось еще одного могущества, только здесь Таме-Тунг, увы, был не помощник. Женька проштудировал книжку от корки до корки, но ничего, что касалось бы умений завладевать женщинами, не обнаружил. А таких умений ой как не хватало! Если честно, про Ларису он тоже кое-что писал, и тоже с ритуальным сожжением над раковиной. Однако последствий пока не было. Та была очень близкой, казалось, еще чуть-чуть – и Сезам откроется, и в то же время оставалась далекой, непознанной и таинственной…
Такую книгу, понятно, возвращать не хотелось, и он обдумывал варианты обмена. Однако предлагать оказалось некому: возле магазина старой книги было пусто, в сквере он тоже не увидел Стоцкого. Спустя полчаса, правда, появился его приятель – старичок по фамилии Филимонов.
– Извините, а вы не знаете, где Борис Семенович?
Опершись на палку, Филимонов с подозрением вгляделся в лицо вопрошателя. Затем повернулся и, пробормотав: «Идите за мной, только в отдалении», направился к лестнице, что спускалась к реке.
Когда дорога нырнула в густые заросли кустарника, старичок остановился:
– Бориса Семеновича, значит, ищете… Не надо его искать.
– Почему?
– Потому что он сейчас вон там! – С этими словами Филимонов указал на утыканное большущими антеннами здание из красного кирпича, что торчало в отдалении на взгорке. – Знаете это богоугодное заведение? Туда его взяли, и других наших тоже. Так что не надо сюда приходить, юный друг, можете подпортить себе биографию.
Женька вернул книгу старику. Вернул торопливо, так что Филимонов, наверное, подумал, что «юный друг» испугался и хочет поскорее избавиться от «вещдока». В чем была доля правды: это не в школе выпендриваться, в здании с антеннами наверняка выдают «волчьи билеты», а может, и по этапу отправляют.
Спустя час он уже жалел: дурак, надо было себе оставить! – но было поздно. Вообще стало как-то тоскливо и противно. Все вокруг внезапно изменилось, и это была перемена к худшему, темному, страшному, будто он навел любимый бинокль на жизнь, и проявились подробности, каких вовсе не хотелось видеть…
11
В выпускном классе Севке было не до школы. Физик Гром постоянно нудил: мол, надо готовиться к экзаменам, загнал на факультатив, только Севка, сходив раз-другой, больше туда не показывался. Он пропадал (как папаша на заводе) на станции юных техников, давно сделавшись местной «звездой». С ним советовался сам начальник радиоклуба, а члены многочисленных технических кружков с уважением говорили: «Рог – это сила!»
Счастью мешали лишь сердечные страдания, возникавшие по разным поводам. Почему-то для всех он оставался Севкой, ну, еще именовали Рог, что для Пряжска было в порядке вещей. Она же стала Ларисой, даже Ларисой Степановной – так ее называл руководитель балетной студии центрального ДК, куда она недавно перешла. И хотя в обращении престарелого балеруна Германа Валерьевича было что-то манерное, возможно, даже шуточное, несправедливость отзывалась неприятным эхом в душе.