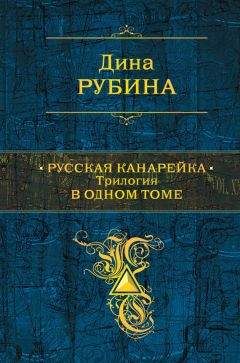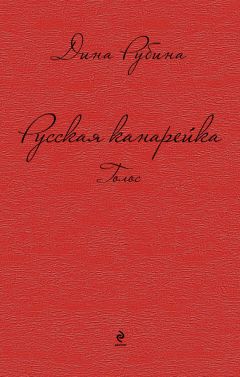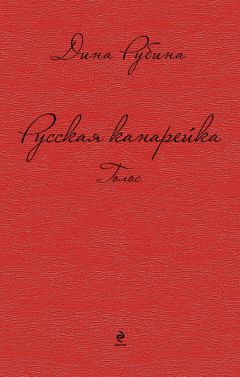И она, со своим «потрясающим чутьем на стиль и даже на интерьер», шпарила «Трансвааль, Трансвааль, страна моя», и непременный «Матчиш», и, конечно же, «На сопках Маньчжурии», и – куда от них деться! – «Амурские волны». Но когда омерзение подкатывало к горлу, а волна тоски накрывала с головой, Эська переходила на благородно-утонченного Крейслера, иногда лишь разбавляя его безыскусной печалью «Полонеза» Огинского.
Кстати, именно «Полонез» она играла в тот вечер, когда один за другим шли сеансы новой ленты «Одесские катакомбы». И по завершении последнего, девятичасового, когда у нее хватило сил лишь опустить крышку клавиатуры, а подняться со стула уже никакой возможности не было, и, уронив мутную голову на сложенные руки, она собралась забыться совсем чуток, на минутку, перед нею вдруг вырос и навис над инструментом огромный детина, бровастый и носатый, в отличнейшем кожаном плаще, и густым умиленным басом протянул:
– О-ой, какая пичу-ужка!
Она подскочила от ужаса: на днях банда пьяных дезертиров растерзала певичку в фойе синема, и люди еще передавали друг другу леденящие подробности, хотя удивить кого-то очередным зверством было трудно: город трясся и съеживался, заползая в подворотни и норы, где укрыться, впрочем, тоже было невозможно. Перестрелки, «эксы», безнаказанные убийства, самочинные «обыски» налетчиков бесчисленных местных банд… Шайки вооруженных солдат, отпущенных с фронтов ленинским «декретом о мире», громили завод шампанских вин и цейхгаузы; из тюрьмы на днях, говорят, бежали восемьдесят пять воров, каких-то «анархистов-обдиралистов», силой остановили трамвай на соседней улице и, раздев всех пассажиров до нитки, преспокойно сыпанули по сторонам. Другая анархистская, как говорил Большой Этингер, «шобла» сочинила и напечатала в «Одесском листке» манифест с угрозами «начать террор над местным населением за издевательства над ворами и тем заставить себя уважать!».
И вот, навалившись на инструмент, этакий-то детина в плаще смотрел на девушку, чему-то ласково изумляясь.
– Так это вы играли так прекрасно всю фильму? – спросил он.
– А вы думали – кто? – еле слышно спросила Эська.
– Я думал, это фортепьяно сам играет, – чистосердечно ответил он. – Механику, думал, завели. Очень как-то… безошибочно. А вот эту расчудесную мелодию: та-ам-тари-рара-там-та-рира-а – это вы сама сочинили?
– Да нет, – сказала Эська и устало улыбнулась. – Это «Полонез», сочинение композитора Огинского.
– Ага… Вот как! А такую песенку – «Стаканчики граненыя» – играть умеете?
– Ну… если напоете, подберу и сыграю.
– Тогда вам не я напою, а вот он. – И, как фокусник, достал откуда-то, чуть не из-за спины, маленькую клетку едва ли больше пивной кружки, где резво прыгала, вертя головой и постреливая дробинками глаз, желтая птичка. Детина в кожаном плаще вытянул губы и, приблизив лицо к прутьям, как-то затейливо посвистал, втягивая щеки. Птичка замерла, две-три секунды прислушиваясь к звукам, и вдруг отозвалась чистым и таким переливчатым голоском, что у Эськи дыхание занялось. – Получите приз: маэстро Желтухин! – сказал человек в кожаном плаще уже не умильным, а решительным тоном, протягивая девушке клетку с канарейкой. – А заодно привет от брата Яши.
Она играла в венской кофейне, наслаждаясь восхитительным ощущением своей уместности в этом прекрасном мире. Встреча с Винарским была назначена на утро. Завтра, завтра она впервые переступит порог святилища, где ей предстоит учиться несколько наполненных и счастливых – она в это верила – лет.
Но все это завтра.
А сегодня она исполняла перед нежданной и простодушной публикой пьесы Крейслера, очень венскую по духу музыку сладостной эпохи fin de siècle – эпохи, не подозревающей, что за углом уже точит топор двадцатый, едва народившийся, безжалостный, смердящий мертвечиной век.
Она играла – птица-колибри под опаловым облаком в высоком куполе стеклянной крыши, – играла, почти не глядя вокруг, не чувствуя усталости, в счастливом подъеме предвкушая куда более головокружительное будущее, загадывая так далеко, как только в юности рискует загадывать непуганая душа…
В следующую минуту все оборвал беспомощный крик отца.
Ее несносная мать, упавшая головой на блюдо с пирожными, перевернутый сливочник, чье содержимое на белейшей скатерти смешалось с хлынувшей носом кровью, бегущий к телефону и опрокидывающий стулья официант, суматоха, карета «Скорой помощи»… и странное бесчувствие, и невозможность выдавить ни слезинки из распахнутых глаз: ведь все это происходит не с ней, и не с мамой и папой, а с чьими-то тенями в иллюзионной ленте, сморгнула – и кадр сменился на морскую гладь с легчайшим перышком белого паруса.
Вот только музыкального сопровождения к этой ленте Эська не взялась бы подобрать.
Впрочем, любую фильму из тех, что впоследствии крутились бесконечной каруселью перед ее глазами, она помнила гораздо яснее и подробнее, чем три страшных венских дня. В памяти застряли отрывочные нечеткие кадры: вот знаменитый венский хирург, светило и бог, рекомендованный профессором Винарским, ставит Доре неутешительный диагноз и настаивает на немедленной операции… обрыв ленты, свист и топот – и вот уже они с папой возвращаются из больницы «Бармхерциге Брюдер», по обе стороны бульвара оставляя плывущие за спину в туман воспоминаний прекрасные здания «венского модерна».
Зато всю жизнь помнилось, как надоедливо лезли в глаза ее буйные кудри, ибо любимая заколка для волос, подарок брата на десятый день рождения (свернутая тремя кольцами змейка с глазами-гранатами), уплыла на крышке старого фортепиано в опаловое облако венского обморока.
Всю последующую жизнь Гаврила Оскарович упорно доказывал дочери, что сама операция по удалению опухоли у Доры прошла успешно. Еще бы не успешно – если вспомнить, что на нее ушли все собранные на Эськину учебу деньги. Просто Дора не проснулась после наркоза – это случается: судьба, рок, выбирайте что хотите, и не о чем говорить, мир ее праху.
Орлеанская Дева тихо удалилась из нашего повествования, отлетев на воздушных шарах своего непомерного бюста.
Всего этого Эська старалась никогда не вспоминать. Музыкой Крейслера в уютном венском кафе закончились для нее отрочество, мечты, европейское образование, да, собственно, и музыка сама – вернее, та музыка, с которой душа ее была на равных в неполные четырнадцать лет.
И никогда больше она не притрагивалась к сливкам.
Дня через три в Одессу из Вены поездом возвращались очень тихая Эська с осунувшимся Гаврилой Оскаровичем. Дора следовала другим классом, в вагоне с другими услугами.
Вернувшись с похорон на Новом еврейском кладбище – где бурно заплаканный отец Доры Моисей Маранц, привалившись к зятю плечом, доверительно сообщил, что «разорен и истерзан, мой мальчик!», поэтому вряд ли сможет снабдить деньгами обучение внучки в европах («Боюсь, Герцль, сейчас не время на меня рассчитывать!»), и что-то еще про морской порт в Херсоне, сокращение хлебного вывоза из Одессы на сорок миллионов пудов зерна, про Дарданеллы, кои наверняка закроет султан, про ставки в бюллетене гофмаклера и черт его еще знает, какую бесстыдную нес и неуместную в этих обстоятельствах дребедень (видимо, проигрался вчистую), – вернувшись с похорон, Гаврила Оскарович прошел в супружескую спальню и первым делом увидел в кресле никчемную Дорину «грудку». Монументальное сооружение виртуозной высокохудожественной работы Полины Эрнестовны напоминало обломки выброшенного на сушу фрегата. По обломкам весело прядали солнечные зайчики от гуляющей под утренним ветерком голубой занавески.
– «Герцль!» – прошептал Большой Этингер. – «Где моя грудка, Герцль?..»
Сел на кровать и заплакал.
4
Морские кучевые облака дрожали и уносились в распахнутой створе окна отцова кабинета, которое надраивала Стеша. Она стояла на подоконнике босая, в ночной рубашке, в надетой поверх нее подоткнутой синей шерстяной юбке и, намяв в обеих ладонях по газетному комку, с двух сторон визгливо протирала вымытое стекло, навалившись грудью на раму.
Вот!
Вот тут мы нашли некий уместный зазор и для Стеши – встрочить в наш рассказ, и без того похожий на лоскутное одеяло, еще и Стешин простой лоскут. Потому что обойтись без Стеши в нашем дальнейшем повествовании о Доме Этингера никак не выйдет.
Что поделать! Еще со времен запевалы-кантониста все члены этого незаурядного семейства, умея ловко попасть в общий тон любого окружения, вписаться в общество, легко и блистательно перенять внешние приметы чужого уклада, в сокровенной основе своего существования допускали подчас некоторую… двусмысленность, эдакое «но», или вовсе крохотное «однако», еле заметное «и все же», – обойти которые, не заметив или не споткнувшись, просто невозможно.