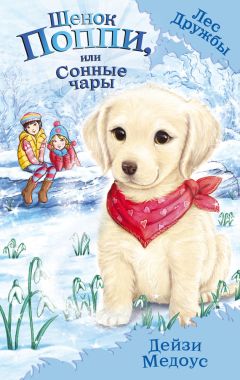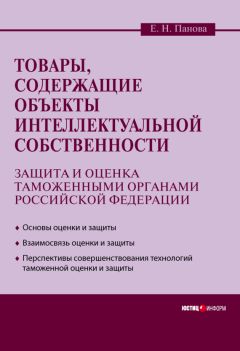Но сегодня я чувствовал потребность в академическом нагромождении философий, – мне хотелось утонуть в словах, потерять опору, чтобы обрести её заново.
В этот день я был трансцендентальным субъектом познания. Я был единством апперцепции. Я был абсолютной идеей, душой мира и, в качестве комплимента самому себе, сверхчеловеком. Я был иррациональной, рациональной и божественной свободой. Я был каждым – Артуром Шопенгауэром, Фридрихом Ницше, Эдмундом Спенсером, Иммануилом Кантом и Альбером Камю, и многими другими. Я был иррационализмом, позитивизмом, скептицизмом, софизмом, рационализмом, эмпиризмом, стоицизмом и схоластикой. В моей голове всё смешалось в гармоничный хаос. Большего мне было и не нужно.
В моих глазах, как в монадах, отражалась вся вселенная. Мои глаза – окна. Монады. Лейбниц сказал, что монады не имеют окон. Он солгал. Монад не существует. Сартр сказал, что наш ад – это другие, и каждый – палач другого. Он был оптимистичней меня. На самом деле наш ад – это мы сами. Каждый сам выбирает людей, которым разрешает себя убить. Каждый сам выбирает себе людей, над которыми будет стоять как палач, ждущий последнего слова. Каждый сам выбирает, перед кем быть уязвимым. Я наслаждался своими бездоказательными возражениями всем философам мира.
Стоики считали, что человеку следует делать то, что для него полезно. Право, это справедливая мысль, однако я убедился на собственном опыте, что человек не может знать наверняка, что пойдет ему на пользу.
Аврелий Августин сказал, что человек обладает всей полнотой истины, но постичь её не в состоянии. Было бы одновременно утешительно и мучительно согласиться с этим. Гегель выдумал изящную спираль, по которой развивается мир. Аврелий Августин сформулировал концепцию линейного времени, где ни одно событие не повторяется. Ницше был уверен, что всё уже когда-то было, и боялся повторения уже однажды прожитого. Он замкнул мир в круг – идеальную, мучительную фигуру вечного повтора.
Аврелий Августин говорил, что Бог находится в душе каждого человека, а Декарт предполагал, что Бог создал мир, подобно огромному часовому механизму, и больше в его дела не вмешивается. Ницше утверждал, что люди убили сверхъестественную реальность, и Бог умер вместе с ней. Порой мне близка эта мысль, но я думаю, что все было иначе. Наблюдая свысока за нашим убогим миром, Бог покончил жизнь самоубийством, как бальзаковский разочарованный творец из «Неведомого шедевра». Вскрыл себе вены или добровольно задохнулся в космическом вакууме. Прочувствовав всю силу постигшего Бога разочарования, я захлопнул книгу до более благоприятного случая, который больше не наступил: уезжая в следующий город, я забыл этот учебник, и был этим очень доволен. Рюкзак стал легче.
Этой же ночью мне приснился сон, о котором я не могу не вспоминать время от времени. Начался он весьма необычно: в пустоте. Я обнаружил себя в туманном, сером пространстве, которому не было предела. Некоторое время я был в замешательстве, потому что действие сна совсем не развивалось. Я ходил туда-сюда, размахивал руками, но вокруг по-прежнему было пусто. Но мало-помалу замешательство моё прошло, и совершенно неожиданно для себя я понял – вместо этого серого полотна может существовать всё, что угодно. Даже больше: всё, что я захочу. В моих силах было одним движением мысли создать мир вместо этой пустоты. И, перестав размахивать руками, я принялся за дело.
Сначала я сконструировал завораживающий глаз пейзаж. На изумрудной зелени лужаек плавно лавировали бабочки с широкими белоснежными крыльями, деревья вросли в землю извилистыми корнями, блистало солнце, как в красивой сказке не для меня. Ни для кого. Этот придуманный наспех безлюдный рай я окружил со всех сторон высокими горными вершинами. Почти все горы были вулканами, спящими в ожидании извержения. Меня завораживал беспокойный контраст красоты и опасности.
Немного погодя, мне пришла в голову мысль заселить этот мир людьми, и я занялся обустройством пространства жизни. Ограда была не нужно. Мой будущий город-сказка со всех сторон был окружен стеной из горных пород. Поэтому я сразу взялся за планировку. В центре я установил белоснежный, как саван, замок. От него по спирали закручивались линии улиц с невысокими домиками из разноцветного кирпича. Около каждого дома цвели в естественном беспорядке полевые цветы. У подножия гор лежал фруктовый сад, где в любой сезон цвела вишня, созревали апельсины, груши и дыни. Я населил этот город добрыми и незаурядными людьми, которые, по моим расчетам, не могли превратить свою сказку в ад.
Обустроив всё таким образом, я остался доволен собой и проснулся в замечательном расположении духа.
По обыкновению, я отправился на кухню, чтобы заварить чай. Но сделав первый глоток из дымящейся кружки, я вдруг осознал свою ошибку. Я населил этот город добрыми и незаурядными людьми, которые, по моим расчетам, не могли превратить свою сказку в ад. Но ад создал для них я сам. Когда я водрузил на цветущих полях вулканы, мне и в голову не приходила мысль заселять долину людьми. Когда эта мысль родилась, я уже совершенно забыл про вулканы, и даже не подумал охладить их пыл, превратив в безобидные снежные вершины. Теперь мой мир сгорит при первом же извержении. Потоки лавы превратят сказку в кипящее месиво человеческих тел, полевых цветов и предсмертных криков.
Я долго не мог простить себе этой ошибки. Создав город идеальных людей, я обрек их на смерть, достойную восьмого круга ада Данте Алигьери, где мучаются льстецы и взяточники. Что, если кто-нибудь выдумал наш мир во сне, и мы медленно умираем, забытые и бессмысленные, по божественной случайности обреченные на ад?
Я многое бы отдал за то, чтобы вернуться в сон и всё исправить.
Но с тех пор этот город мне никогда не снился.
Страница 33
Красное вино и чувство неловкости
Мне часто снился снег. За пределами сна он пошёл лишь в январе, в ту минуту, когда я шёл по очередному незнакомому перрону. В эту минуту я был счастлив. Я любил снег за то, что он холодный, как мои руки и за то, что он делает светлее мой обесцвеченный мир. Этот первый январский снег сводил меня с ума. Я искал простора для того, чтобы быть наедине со снегом, как тогда, во время короткого зимнего бегства. Тридцатью минутами позже я стоял посреди поля, подставив лицо холодным снежным прикосновениям. Снежная стена отделяла меня от мира. Вокруг меня была пустота. Я улегся на свежий белоснежный ковер и стал смотреть на небо. Снег пошёл медленнее. Надо мной было серое небо. Надо мной была пустота, разлинованная проводами, как тетрадный лист. Но писать в этой тетради я не мог. Я только постоянно жмурился от снега, летящего в раскрытые глаза.
Совсем другие чувства одолевали меня, когда я убежал в снег из дома, где жил с Анной. Теперь же я искал своих чувств к ней, но находил на их месте чёрную дыру, куда проваливались все мысли о ней и пропадали навсегда. Это началось ещё в тот момент, когда она вернулась и всё мне рассказала, – я сейчас расскажу об этом. Сначала исчезло всё незначительное, мелочи, вроде случайных улыбок. Затем дыра беспамятства стала расти, она поглощала, уничтожала тонкие оттенки чувств, градацию эмоций, редкие моменты понимания. Я надеялся, что смогу всё простить и начать любить её иначе, но внутри росла чёрная дыра.
Я упустил момент, когда Анна захотела исчезнуть, и мне пришлось просто ждать, когда она вернется и расскажет, что приобрела за время своего отсутствия. Она уходила, чтобы вернуться и предстать передо мной мертвым Богом. Я ждал её, я искал причины, находил их, опровергал и искал снова.
Но вскоре я решил избавиться от нашей истории. Вырывал из тетради по листку каждый день в надежде, что она спасет наши тетради, что она успеет. Я ещё любил её. Или думал, что любил. Только думал, увы. От первой тетради остались одни корочки, их я выбросил в окно.
Если бы я мог говорить с ней, я бы попросил сохранить обрывки моих мыслей, оставить в голове каждый мой вопрос, даже если он остался без ответа. Но я знал, что давно выветрился из её памяти. И я знал, что в моих обрывках мыслей она ценила не мысли, а меня, чувствовала меня, но не понимала.
Проходили дни, которые я пытался заполнить каким-нибудь смыслом, проходили часы, минуты, недели, секунды, прошли месяцы. Когда она захотела вернуться, я снова упустил момент, поэтому я просто отпер дверь и впустил её, забыв про только что налитый чай с земляникой.
Мы сняли с себя одежду торопливо, будто боясь опоздать на поезд. Мы были из тех людей, для которых часы всегда идут быстрее. На несколько секунд мне показалось, что всё вернулось назад. Как будто те дни, которые прошли без неё, внезапно стерлись из памяти.
Но время истекло и напомнило о себе. Я так привык вырывать листы из тетради, что уже не мог остановиться. Она достала из шкафа нашу старую фотографию в рамке и поставила на мой письменный стол, записала в мой мобильник свой новый номер телефона. Я сидел на подоконнике, прислонившись головой к стеклу. На столе стоял остывший чай. Мои мысли были ещё холоднее чая. Я включил обогреватель, достал тетрадь и вырвал оттуда ещё один лист.