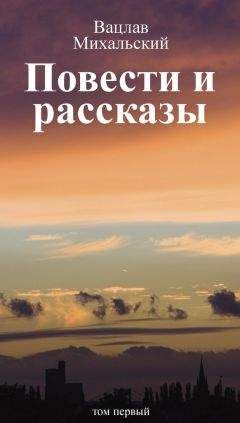Винодел Вартан всегда говорил, что у нас лучшие виноградники во всем Прикаспии. Вартану можно верить, он из Кизляра – родовой вотчины князя Багратиона. А Кизляр всегда славился замечательными коньяками, которые, по местному преданию, выписывал для своих личных нужд сам Черчилль, а нужды у него, сообразно тучному телу, были немаленькие.
Наверное, дом у нас был и небольшой, и неказистый на вид, но мне он казался огромным и прекрасным. Стены его были сложены из самана, двухскатная, довольно пологая крыша покрыта в три слоя камышовыми циновками, обмазанными глиной. На крыше кое-где по краям, с северной стороны, зеленел мох, а по всему ее полю цвели цветы. С первым теплом расцветали алые маки, когда дул ветерок по нашей крыше пробегали алые волны. Потом появлялась желтая сурепка, расцветали высокие белые ромашки, которые были так призывно хороши среди ранней черной южной ночи, что слов нет. И наконец, все лето, всю осень и до самой зимы стояли нежно-лиловые сухие цветы бессмертника. И когда сейчас я пишу эти строки и думаю о бессмертниках, то сразу вспоминаю моего деда по отцу Адама.
IIДолгим летним днем маленькое белое солнце, гораздо более белое, чем сам солнечный свет, жгло так горячо, что даже мухи и стрекозы переставали летать, опасаясь, что у них пересохнут и рассыпятся крылья. К полудню на крыше нашего дома никли все цветы, кроме бессмертника, который всегда стоял прямо – и в зной, и в холод.
Летний вечер бывал короток, тих и ясен. Из-за нескончаемых выгоревших на солнце светло-зеленых шеренг виноградных лоз, подвязанных на высокие палки – таркалы и еще скрывающих под листьями недозревшие гроздья продолговатых Дамских пальчиков, розового Муската, крупной, как черешня, иссиня-черной Изабеллы и других сортов винограда, из-за смутно различимых вдали очертаний города на берегу моря вдруг докатывались до нас волны такого свежего воздуха, такого напоенного запахом морских водорослей, что невольно и люди, и коровы в коровнике, и охраняющий их старый кутанский пес Джигит начинали дышать полной грудью и радоваться каждому вдоху. Это дул с моря северный ветер Иван. Он зарождался где-то в астраханских степях сухим и горячим, а пролетев несколько сотен километров над морем, наполнялся пахучей морской свежестью и, добравшись до нас, омывал этой бодрой свежестью, казалось, весь мир: гараж, коровник, контору, винные подвалы, крышу нашего дома, на которой поникшие днем цветы поднимали головы навстречу Ивану.
Ночь опускалась всегда внезапно. На высоком черном небе выступали лучистые и как бы острые звезды, и скоро становился виден зыбко светящийся, словно крупитчатый, Млечный путь. А когда разгоралась полная луна, крупные звезды теряли свою острую лучистость и становились яркими переливчатыми камешками, а совсем маленькие – золотыми блестками на черно-синем фоне бесконечно далекого неба. Как правило, именно в этот час позднего вечера на дальних окраинах виноградников зарождался многоголосый гам, в котором было всего понемножку: и плача, и хохота, и стонов, и криков отчаяния. Эти смешанные звуки, летящие в темноте чуть колеблемых ветром виноградных лоз, приближались со скоростью бегущий собаки и все плотней и плотней обступали нашу усадьбу.
Обычно, едва услышав эти жуткие звуки, я уходил в дом, но однажды замешкался на пороге. Получилось так, что мой дед Адам стоял спиной к двери лицом ко мне, а дверь за ним была плотно прикрыта.
– Ой-ё-ё-ёй! Уй-а-а! Ха-ха-ха! Уа-уа! Уй-ха-ха! А-а-а-а-ай! – леденящие кровь голоса, казалось, заполонили все виноградники и надвигались неотвратимо и вот-вот были готовы преодолеть нашу последнюю защиту, наш водный рубеж – канаву, поросшую по крутым откосам стелющейся ежевикой, таинственно черной при ярком мертвенном чуть зеленоватом свете луны, ежевикой, в которой устроилось на ночь так много змей-медянок, ужей и лягушек.
Все ближе и ближе мелькали среди шеренг виноградника зловещие зеленые точки. Я знал: так горят их глаза при свете луны…
– Шакалов нельзя бояться. Они жрут падаль и нападают только на слабых, а ты сильный. Ты сильный? – спросил мой дед Адам.
– Сильный, – поддернув короткие штаны, болтавшиеся на одной помочи, уверенно отвечал я деду, хотя мурашки бежали у меня по спине.
– Значит, гони шакалов. Кричи, свисти, топай на них ногами!
Некоторые дети научаются рано говорить, некоторые рано читать, а я научился рано свистеть. Пастух Алимхан показал мне, как надо класть на язык сдвинутые кончики безымянного и указательного пальцев и сильно дуть. Не один месяц посвятил я этой науке, не один и не два, и не тысячу раз вместо свиста вылетали у меня изо рта только слюни. Но однажды раздался свист! И с тех пор, раз и навсегда, я усвоил, что главное – поймать хоть раз этот крутящийся, этот таинственный миг умения. Главное – поймать один раз, а дальше все пойдет как по маслу. В общем, свистел я вполне прилично.
– А свистеть в два пальца или просто? – спросил я деда.
– Как у тебя получается сильней?
Я свистнул без пальцев, а потом с двумя пальцами.
– Свисти с пальцами, – посоветовал дед. – Бери шакалов на испуг. Сам бери. И они убегут. Главное – не бойся. Понял?
Я не успел ответить: совершенно неожиданно для меня мой дед Адам вошел в дом и плотно притянул за собой дверь.
Я остался один на один с воем и плачем надвигающихся шакалов, с мельканием их зеленых беспощадных глаз в глубине виноградников, почти что на подступах к канаве.
Я заорал как мог. Потом засвистел с двумя пальцами. Затопал босыми ногами. Еще завизжал из последних сил.
Зеленые огоньки подступали все ближе и ближе.
Я свистнул в два пальца очень удачно, очень пронзительно. И тут от коровника донесся хриплый рык нашего охранника Джигита и метнулась по направлению к нашему дому его большая, летящая тень. Наверное, рывок от коровника занял у пса несколько секунд, а мне показалось, что совсем ничего, что он в мгновение ока вырос рядом со мной, и его густой, мощный лай как ножом отрезал шакалий вой. А еще через секунду-другую по берегам канавы дружно заквакали сотни, а может быть, тысячи лягушек. И я опять засвистел очень удачно, так сильно, что у самого зазвенело в ушах, еще никогда у меня не получалось такого свиста. Лай Джигита, кваканье лягушек и мой отчаянный свист были такими дружными, что зеленые огоньки на той стороне канавы приостановились, замерли, а потом вой, и хохот, и зеленые огоньки шакальих глаз стали откатываться от нашей усадьбы со скоростью бегущей собаки.
Наверное, мне шел тогда седьмой год, потому что если мерить по головам, то моя голова была повыше большой головы Джигита. Не помня себя от радости, я обхватил обеими руками голову пса и поцеловал его в холодный мокрый нос. Пес так растерялся от моей наглости, что только отшагнул чуть в сторону. Я же рывком открыл дверь дома.
– Пся крев! – беззлобно выругался стоявший за дверью мой дед Адам, потому что потерял равновесие и чуть не вывалился за порог.
С тех пор я никогда в жизни не боялся никаких шакалов.
IIIНе то что от шакалов, но и от незнакомых собак нельзя убегать, потому что тогда у них срабатывает охотничий инстинкт: убегающих они воспринимают как свою законную добычу. Все неподвижное собака видит не дальше пятисот метров, а все движущееся гораздо острее, почти за километр – эта особенность собачьего виденья мира и подстегивает охотничий инстинкт, приводит в действие его спусковой механизм. Угол зрения у собак достигает 240 градусов.
О том, что нельзя убегать от собак, мне говорили и дед Адам, и пастух Алимхан. Правда, они изъяснялись не столь научно, но смысл до меня донесли. По их совету я не убегал от чужих собак и всегда делал вид, что не боюсь их ни капельки.
А что касается Джигита, то с того памятного летнего вечера, когда я, он и тысячи лягушек отбили нашествие шакалов, наши отношения с псом сильно улучшились. Если раньше они были довольно нейтральными, то теперь стали вполне дружественными. Наверное, такая перемена произошла в том числе и потому, что, однажды взяв меня под свою защиту, Джигит решил, что так должно быть всегда, что теперь он за меня в ответе. Конечно, не как за овцу, но и не как за своего хозяина Алимхана, а как за что-то среднее между ними.
Джигит было полное имя пса. Пастух Алимхан звал своего помощника Джиг, а я еще короче – Джи!
Джи был рослый пес, не ниже 70 сантиметров в плече, а может, и того выше. Его длинное тело на толстых лапах дышало мощью, даже когда он дремал, а дремал он всегда. Да, да, на вид Джи был очень флегматичный, казалось, всегда дремал, но видел, слышал, чуял все и в любую секунду был готов к действию, которое ничего хорошего не сулило его противникам. Голова у пса была большая, широкая, с заметной бороздой посередине лба – к носу. Нос тоже широкий с большими черными ноздрями. Хотя Джи был давно не молод, у него сохранились мощные, чистые, плотно подогнанные один к другому белые зубы – предмет моей белой зависти.