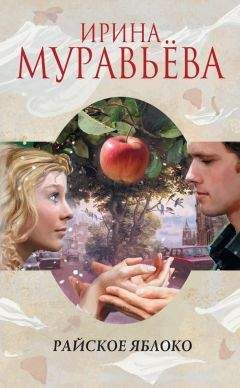Дома, куда она вернулась в самом конце лета, стало неуютно. Саша все запустил, разумеется, везде была пыль, беспорядок. Но это все мелочи. Можно прибрать. Ее мучило другое: невозможность кому бы то ни было объяснить, что произошло с нею незадолго до Рождества и насколько важным оказалось то, что произошло с нею. Если бы она решилась поделиться с Сашей, он – по своему пугливому и осторожному характеру – немедленно побежал бы советоваться к врачу, а врач, уж конечно, нашел бы симптомы какой-нибудь новой душевной болезни. Подруги в сознании Лизы связались теперь с Ибрагимом и крошкой-танцором. А хуже периода не было в жизни. Всякий раз, когда Лиза мысленно притрагивалась к подробностям своего рабства и перед глазами ее появлялись золотые и бархатные подушки, красный педикюр на худощавых ногах, ленивые, полузакрытые глаза Ибрагима и слышался голос его, сладкий, липкий, – когда этот ужас опять, словно рвота, вдруг переполнял ее горло, она сжималась и даже махала руками, стараясь прогнать наважденье подальше.
Она уже знала, с кем ей поделиться. На первый взгляд это казалось абсурдом. За все эти годы борьбы, подозрений и, главное, муки стыда – смертной муки – они ведь ни разу не поговорили.
Глава десятая
Нона Георгиевна
Агата продолжала беседовать с Ноной Георгиевной так, как будто никакой болезни не было и в помине. При этом сама Агата была на сто процентов уверена в том, что Нона Георгиевна ничего не слышит и ничего не понимает. Трудно сказать, почему она была так уверена, но важно, что эта уверенность открыла простор для любых откровений. Прежде, когда Нона Георгиевна была здорова, Агата контролировала себя и высказывала не более половины того, что переполняло ее, а теперь, разворачивая маленькую, горячую и сухую куклу с неподвижными глазами и еще густыми, темным золотом отливающими волосами, протирая ее специальной жидкостью, жесткой расческой раздирая ее густые волосы, открывая ей рот и заталкивая в него ложку с жидкой пищей, она говорила без умолку.
– А я тебе, Нона, всегда объясняла, что дочь должна понимать, кто она. А так эта дочь все равно что соседка! Она же не знает, что ты ее мать! А это последнее дело. Конечно, когда мерзавец и подлец Аполлон сделал тебе ребеночка на сорок пятом году жизни, ты перепугалась. Но я говорила тебе: «Нона, слушай! Мы вырастим этого ребеночка, кем бы он ни оказался! Окажется девочкой, вырастим девочку, окажется мальчиком, вырастим мальчика! Ведь как ни крути, человек, к тому же армянских кровей! Аполлон – мерзавец и подлец, но он был хорошего рода, и мама его была очень доброй женщиной, и я помню их семью как свои пять пальцев! А ты стала как сумасшедшая, Нона! Тебе было стыдно коллег! Что они подумают! Что они могли подумать, Нона? Только то, что ты спала с мужчиной и от этого получился ребенок! Что нового они могли подумать? Это старо как мир! А то, что ты ученая женщина, не имело никакого отношения к тому, что у тебя в животе завелся ребенок! И то, что тебе сорок пять, не имело. Ведь доктор сказал тебе: «Нона Георгиевна! Плод очень большой и хороший. Смотрите: вот это головка. Лежит хорошо. Мы вынем его вам за десять минут. Носите спокойно». А ты? Что ты сделала, Нона?»
Нона Георгиевна открывала рот и старалась заглянуть Агате в глаза, но зрачки ее тут же уплывали под веки с такой сильной дрожью, что даже Агата терялась.
– Лежи, лежи тихо! Ты все равно ничего не слышишь, Нона! Ты заболела, но я не брошу тебя, и ты никогда не будешь ни в чем нуждаться! Сейчас ты поспи, а я выжму тебе апельсины, потому что ты ничего толком не поела сегодня, Нона, а сок восстанавливает силы.
Агата была так поглощена здоровьем Ноны Георгиевны, что почти не обращала внимания на то, что происходит с Мариной. Тем более ее совершенно не беспокоило то, что к двадцатилетней Марине почти каждый день приходит в гости черноглазый старшеклассник, сидит рядом с ней на диване, смешит ее всякими байками и глаз своих черных с Марины не сводит. Но Алеша, которого, в отличие от Агаты, интересовало только то, что связано с Мариной, видел, что она ходит сама не своя и поделиться ей не с кем, потому что в этом доме, где величаво командует домработница, а тетка лежит, как в музейной гробнице лежат только мумии, – в этом солидном, всегда чисто прибранном доме делиться не принято. Трудно? Всем трудно. Терпите.
А он всегда думал, что и в других семьях должно быть все так, как у них: скандалить, ругаться, бить с плачем посуду, а после мириться с таким наслажденьем, как будто бы за этим миром внезапным последует смерть. Здесь все было тихо, спокойно, с достоинством. Никто не кричал и не плакал. Зато очень четко обедали в восемь и каждый раз был новый свежий обед. Не то что у них. Здесь не разогревали.
Теперь, когда он сидел с ней на диване, она почти не сводила глаз с телефона, который звонил все реже и реже, далеко не каждый вечер, кусала губы, теряла нить разговора и сглатывала слезы. Помочь было нечем, лишь только пить чай с пастилой и вареньем и очень стараться ее рассмешить. Она иногда улыбалась с усилием, точеная грудь напрягалась под платьем, и жилка на длинной и тоненькой шее слегка розовела, как будто под кожей ее осветили свечой.
Был вторник, шестнадцатое ноября. Агата ушла, они молча сидели.
– Марина, – спросил он, – я вам не мешаю?
И тут зазвонил телефон. Она сорвалась так, что чуть не упала. Услышала то, что ей кто-то сказал, закрыла глаза и повесила трубку. Вернулась к Алеше.
– Вы знаете… я… Я устала сегодня, продрогла, болит голова. Я лягу, а то скоро тетя проснется. Простите, Алеша. Вам лучше уйти.
Он вдруг разозлился и страшно обиделся. Не пудель же он – то сиди, то уйди! Схватил ее тонкую длинную руку. Она осторожно ее потянула, стараясь его не обидеть. Он вдруг как ослеп: лицо ее смыло, оно расползлось, осталась лишь тонкая жилка на шее. Он к ней потянулся. Она отодвинулась. Тогда он почувствовал дикую силу, подобно которой ни разу не чувствовал, притиснул Марину к себе.
– Пустите меня! – закричала она. – Вы что, ненормальный? Пустите меня!
– Но я вас люблю! – застонал он. – Марина, я так вас люблю!
Она молча, яростно, вся покраснев, боролась с ним. Но он был сильнее, и когда Марина, не удержавшись, упала навзничь на диванную подушку, рухнул прямо на нее тяжестью своего крупного юношеского тела и обеими руками откинул назад ее голову, пытаясь поймать ее сжатые губы своими губами. Она как-то выгнулась вся и коленом ударила прямо в живот. Алеша опомнился. Сгорая от стыда и натыкаясь на стулья, он бросился в коридор, схватил свое пальто и кубарем скатился вниз по лестнице.
На холоде понял, что больше ее никогда не увидит. Но он не успел отойти далеко. Марина его догнала. Он застыл. Она подбежала в накинутом шарфе, прижалась к нему, обхватила его. Алешу трясло, он не чувствовал ног. Хотя, говорят, у собак в живодерне, когда их находит хозяин и клетку уже отворили, бывает подобное: собака дрожит и теряет чувствительность.
А тут и пошел первый снег на Москву. И все в ней разгладилось, все стало чистым.
Проводив Алешу до метро, Марина, вся в этом снегу, без пальто, вернулась домой. Из комнаты Ноны Георгиевны слышался стон. Марина над ней наклонилась. Нона Георгиевна беспокойно поводила глазами и все старалась приподнять левую руку.
– Попить? – прошептала Марина. – Пописать?
В столовой звонил телефон.
– Маришка, – сказал голос фавна. – Ну, ты извини. Я сволочь, конечно. Ты не заслужила. Ты только послушай. Я выпил немного. Хотя я не пью, ты ведь знаешь, Маришка. Она меня точно сожрет, кости выплюнет. А может, прогонит. Не баба, а викинг. Ей шкуру носить, на медведя ходить. Постой! Дай скажу тебе. Девочка, милая…
Язык у него заплетался.
– Ты слушай. Маришка! Ты здесь? Ты со мной?
– Не надо, – сказала Марина. – Ты все мне сказал, я уже поняла.
– Ты в смысле, что я… Ну конечно, подлец! Дай договорю. Я знаешь как думал? Работа, и все! А все остальное… Ну, что? Бабы, да? Так баб – вон их сколько! Да ты не сердись! А главное – это искусство! Работа! Искусство важнее всего! И жил как дурак, и детей не завел. Тебя вон профукал!
Марина молчала.
– А я ведь ее не попробовал даже! Не даст ни за что! И ведь я это знаю!
Марина повесила трубку.
Болело внутри. Так болело, как будто ее всю располосовали. Она осторожно легла на диван. Опять тетка стонет. Нет, надо подняться, пойти, посмотреть на нее.
– Мне больно, – сказала Марина в подушку. – Мне больно ужасно. Я так не могу.
И встала, пошла. Нона Георгиевна смотрела на нее блестящими глазами. Лицо ее было слегка воспаленным.
– Ва-а-а… – промычала она. – Ва-а-а та-а-а!
Марина пощупала лоб у больной. Он был очень влажным, горячим и липким.
– Ва-а-а! – повторила больная сердито. – Ва-а-а…
И, вся покраснев, подняла все же руку и этой рукой показала на шкаф. Вернее сказать, на его нижний ящик. Марина села на корточки и выдвинула его.