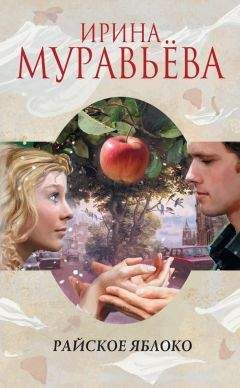– Так мне выходить?
– Минут через десять.
Она стояла у дома и ждала его. Шапки на ней не было, но были очки. От неожиданности он даже остановился. Очки были модными, в темной оправе, но только лицо ее вдруг изменилось: пропали глаза.
– Что? Не узнаешь? – спросила она.
– Да нет, узнаю. Это мода такая?
– Врачи прописали, ухудшилось зрение. Но, если не нравится, я могу снять.
– Зачем? Раз тебе прописали? Носи.
Он вдруг пожалел, что все это затеял: сорвал ее с места, позвал погулять. Уж лучше к Нефедову было пойти!
– Алеша, – сказала она осторожно, – дед в Питер уехал. Пустая квартира.
– А мне что с того?
– Ничего. Мы можем зайти туда. Чаю попить.
Скажи она это дней десять назад! Да он полетел бы, как жук из окошка!
– Ты знаешь что, Катя? Я лучше домой. Там мама одна. Да и просто – мне лучше.
Тоска по отцу стала невыносимой. Все тело заныло, как будто душа уже не вмещала ее, не справлялась.
Она отвернулась.
– Вот, Катя. Прости.
Теперь она плачет.
– Прости. Я пошел.
Она подняла очки кверху, на лоб, взглянула размытым куском светло-синего неба.
Он остановился.
– Ну ладно, пойдем.
Шли молча. Стемнело. Вошли в гулкий темный подьезд. Катя открыла дверь своим ключом. В квартире пахло собакой. Сначала Алеша почувствовал запах и тут же увидел собаку, большую, лохматую. Она подбежала, скуля от восторга. Катя села на корточки и поцеловала собаку в лоб.
– Вот это Кокоша, – сказала она.
– А я вот Алеша, – представился он, погладив собаку. – Огромный какой! Один, что ли, он здесь живет?
И вспомнил, что Яншин со дня похорон ни разу не ел. И мама насильно кормила его.
– Дед завтра вернется. Уехал вчера. Сегодня возьму его к нам ночевать, – ответила Катя. – А то он скучает.
Дед завтра вернется! А папа…
В коридоре было полутемно, свет из ванной комнаты, дверь в которую была полуоткрыта, слабо освещал его.
– Кто дед у тебя?
– Профессор по нервным болезням, известный.
– По нервным? Ну, это нужнее всего.
– Алеша, сними свою куртку.
Сняла свою шубку. И он скинул куртку.
– Ботинки снимать? А то я наслежу.
– Не нужно. Я вытру потом, ерунда.
Прошли вместе в комнату. Сели на стулья. В комнате было еще темнее, чем в коридоре. Фары проезжавших по улице машин и фонари, слабо раскачиваемые ветром, то сильнее, то слабее озаряли ее.
– Я чайник поставлю, – сказала она. – Ты хочешь поесть? Я сейчас приготовлю.
Он вспомнил, что и не обедал сегодня.
– Нет, есть не хочу. Но чаю бы выпил.
Она убежала. Кокоша остался и лег ему на ноги.
А Яншин всегда спал в ногах у отца. И пьяным отцом никогда не гнушался.
Она принесла ему чай, бутерброды.
– А ты? Ты не хочешь? – спросил он неловко.
– Я ела, – сказала она, – я сыта.
Прошло минут семь. Они оба молчали. Он выпил свой чай, съел один бутерброд. Сказать ей «спасибо», одеться, уйти. Быстрее, пока она не удержала.
– Алешенька, не уходи! – Она опустилась на корточки рядом с собакой. – Не надо.
Теперь как уйти? Когда двое у ног?
– Давай свет зажжем, а то очень темно.
Она поднялась, зажгла свет. Пес шумно встряхнулся, как будто бы выплыл на берег из бурной, широкой реки.
– Глаза очень режет, – смутился Алеша. – Какая-то лампа у вас слишком яркая…
Она погасила торшер.
– Ты не утешай меня, Катя. Не нужно, – сказал он, хотя она просто молчала.
– Я знаю, – сказала она. – Я не буду.
Но вдруг он рванулся к ней, обнял и вжался лицом прямо в голубизну ее глаз.
Отец его умер. А что это – умер? И где он теперь? А помнишь, когда ты был здесь, мы ездили летом на Черное море? В гостинице не было мест, и мы спали у самой воды на песке? И море вдруг стало светиться? А мне было – сколько? Лет восемь? Нет, семь. Потом мы приехали в город – горячий от солнца, малюсенький город, и я заболел. Меня рвало с кровью, и я был так слаб, что даже не мог доплестись до уборной. Потом я заснул, а проснулся и вижу, как ты сидишь, плачешь, целуешь мне руку. Ты думал, что я ничего не заметил? Я просто тогда притворился, что сплю.
В комнате было темно. Алешу обдавало жаром: в затылок дышала собака, которая встала на задние лапы и стала шершавым своим языком лизать ему шею и плечи.
– Я думал, – захлебываясь слезами, бормотал он, – что это может случиться с кем угодно, но только не с ним, вернее, я не думал об этом, но, когда мне говорили, что кто-то умер, я всегда чувствовал, что это кто-то другой, но не он, и теперь мне иногда кажется, что все-таки это не он, но это же он, это он…
– Не надо, Алеша, не надо, не надо, – мучаясь, что ей нечем возразить ему, шептала Катя, быстро и крепко целуя его, и в неровных вспышках, освещающих комнату с улицы, видно было, как ее маленькие руки торопливо гладят его голову и одновременно отталкивают собаку. – Алеша, он знает, что ты его любишь, он видит все это…
– Откуда ты знаешь?
– Мне кажется так. Умершие ведь даже снятся поэтому…
– Откуда ты знаешь, что папа мне снился? Я разве сказал?
– Нет, не говорил…
Они замолчали. И стало так тихо, как будто бы, кроме дыханья собаки, ни звука не существовало на свете.
Не дай Бог бы кто-то вошел и увидел, как двое, один из которых – подросток, за несколько дней до того схоронивший родного отца, а другая – девчонка, которой доверчивый дед предоставил пустую квартиру, не дай Бог, увидел какой-нибудь бы посторонний, как нежно они целовали друг друга в столовой, и как прошли в спальню, и в спальне легли на пахнущую грязной черной собакой кровать весьма недальновидного деда и переплелись в ней, лаская друг друга и так задыхаясь, дрожа, торопясь, как будто бы смерть разлучить их грозила, а им нужно было успеть стать одною, той самой, навлекшей проклятие плотью, поскольку они незаметно вкусили от райского яблока, а после этого у них уже не было, Господи, выбора.
Все знаю (цыг.).
Даю тебе мое слово (цыг.).
Я это слышала (цыг.).
Подожди! (цыг.)
Обманываешь (цыг.).
Что будем делать? (цыг.)
Дай мне посмотреть! (цыг.)
Чтобы тебя Бог покарал! (цыг.)
Держи язык за зубами! (цыг.)
Не будь дураком! (цыг.)
Привет! (лит.)
Привет! (лит.)
Тикамацу Мондзаэмон. Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей. Перевод В.Н.Марковой.