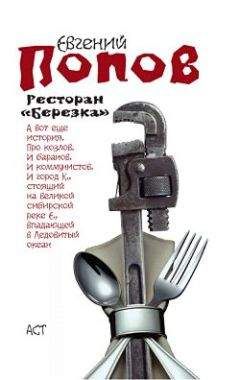Однако через короткие мгновения догадался, что говорил с домом и что время ещё не вышло, догадался по дочкиному голосу, звавшему из трубки:
– Нянько! Нянько! Ну куда же Вы стёрлись?
– А никуда я, донечка, не пропадал, – искательно, как-то виновато буркнул Иван: – Тут я, туте…
Говорить стало не о чем. Иван замялся.
– Главное спроси. Про погоду, – с шёпотом потукал кум Ивана по локтю.
– Да! Какая там у нас погода? – пальнул Иван.
– А какая повсегда. Солнушко… Тёплышко… Погодистый денёшек. Я б хотела, а пусть всё лето будет такое… Я вот с поля прибегла… Дело к обеду…
– А тут в самом распале ночь. В самом распале…
Ивану пришла в голову превосходная мысль, и он, обругав себя дурнем, неизвестно на что попусту тратящим деньги и время, досадно щёлкнул себя по лбу. Во весь рот гаркнул в трубку:
– Донечка!
– Нянько! Вы что кричите? Я не глухая. Расхорошо слышу Вас и так…
– Донечка, мамко там далеко?
– А рядом стоят.
– Дай трубку. Нехай с няньком поговорят.
Вложил Иван в тряские отцовы руки трубку.
Скомандирничал:
– А ну говорите. Говорите с мамкой! Не смотрите на меня пугано. В трубку говорите!
Отец не удержал трубку. Трубка вывалилась у него из окаменелых рук и маятно закачалась над самым полом между отцом и сыном.
Из трубки доносился усталый, печальный голос матери.
– И-ва-ноч-ко-о… И-ва-ноч-ко-о-о… – ясно звала из-за океана старуха.
Сын с укором поднял трубку. Тесно прислонил к отцову уху.
Неуверенно отец взял трубку, прижался к ней дряблой, изжитой щекой и горько, навзрыд заплакал.
– Нянько! Нянько! – торопил Иван. – «Что ж литься рекой? Заказанное время выходит. Покупалки[34] идут. Плачено ж!» Скажите хоть слово!
Слёзы градом катились по старым щекам.
Старик покаянно прижимался к трубке. Ни слова не мог сказать.
– Говорите! Говорите же!
Иван сторожко потянулся ухом к трубке.
Прислушался.
Плач шёл и из трубки.
Где плетень пониже, там и перелезают.
Спящую собаку не буди.
Старики гости в печальном озарении уходили от Голованей, прижимая к груди по пластинке про Верховину.
Милый подарок с родного краю…
Тот-то что подымется в этот глухой час, когда услышат домашние, как «Верховину» поют сами верховинцы!
Слабая лампёшка перед входной дверью вовсе не кидала свету за порог. В жёлто-мрачной зыбке едва угадывалось ветхое крыльцо.
Кривой кум боком спускался в плотную ночь по печально-певучим ступенькам-клавишам, остановился не на третьей ли ступеньке от верха, поднял защитительно руку к идущим следом двум старикам.
– Хлопцы! Вы как знай себе. А я перепрячу надальшь, – и пустил пластинку за пазуху. Обстоятельно перекрестил обозначившийся кружок.
Два других старика не решались трогаться за ним с площадки крыльца, с ленивым попрёком сказали на то:
– Как ты, тюха-пантюха, был единособственник да так и закаржавел. Взял бы на сохранность и наши!
– Я что… – с близкой обидой в голосе пробормотал кум. – Я возьму. Тольке я считаю, всяк своё неси сам…
– А ежли мы себе по такой темени не доверяем?
Мария, провожая гостей, с щемливой улыбкой наблюдала с порога, как пьяненькие стареники чинно передавали свои пластинки. Видела, с какой гордостью кривой кум прятал к себе за пазуху пластинки своих товарищей. Видела, как те, двое, в один голос потребовали, чтобы он, с пластинками, непременно шёл только за ними, поскольку это будет надёжней, безопасней.
И кум, не двигаясь с места, переждал, когда те двое, взявшись за руки с детской верой в твёрдую силу протянутой руки, обминули его и бочком поскреблись к калитке в глухом дощатом заборе.
Так же, держась за руки, прошли на волю, на улицу, чёрную, затаенную.
Остановились, поджидают кума.
Едва подтащился кум к калитке, откуда ни возьмись накатился из тьмы чёрный ком, сшиб в калитке старика с пластинками и пожёг к крыльцу.
Закрывая входную дверь, Мария увидала на косяке цепкую молодую руку, с коротким обомлелым криком шатнулась назад.
– С каких это пор ты стала бояться своего сыночка? – с плутоватой ужимкой хохотнул Джимми и принялся небрежно сковыривать мизинцем её синюшные пальцы с её бледно-воскового лица.
– Джи! Чёртушка ты на примусе! Ну насмерть перепугал. Как налётчик какой!
Во дворе заслышались придушенные старые голоса:
– Что такое?
– Кто?
– Ох! По-овна пазуха осколков! Ох-ох-ох!.. – причитал кум.
Мария сразу узнала кума.
– Это ж гости! – уставилась на Джимми.
– Мне глубоко наплевать!
– Что ты, дублёный загривок, натворил?
– Ровным счётом ничего, если не считать, что в силу служебной необходимости сбил кого-то в калитке. Вижу, закрывается дверь. Я рванул со всех ног…
В дверь робко поскреблись.
Джимми вяло вывалился из-за двери по пояс.
Увидав человека в полицейском, кривой старик дёрнулся назад, резко взмахнув руками, – рубаха вырвалась из штанов и чёрным ручьём брызнули на пол осколки.
– Вот и всё… что вы нам оставили… – убито пролепетал старик, пятясь по сходкам вниз.
– Убирайся, покуда я добрый!
Мария прикрыла дверь.
– Как можно!.. – зашептала она с упрёком.
– Не врублюсь что-то… С каких-то пор что-то уже нельзя и дублёному загривку?
– Но это ж гости!
– Хороши гости! Проводили раз. Ждут вторых проводин? У меня это быстро!
– Оно и видно. Тебя что, звали к полуночи?
– Ну-у, – замялся Джимми, – дела… Совсем… совсем заколебали… Понимаешь, у шефа заболела прислуга. Пришлось дать марафон по магазинам. Прошу одного взвесить фунта полтора картошки, мне на раз. А ему смешно. Вы, говорит, первый, кто просит разрезать картофелину. Это у нас не принято… Кретин! Я в другую лавку. Там пакет на три фунта потянули четыре картохи. Каждая с локоть! Я никогда не видал такой крупной картошки!
– Конечно, в тарелке она всегда мельче.
– Потом, пока мыл полы, пока прогуливал мопса…
– Да-а… Чем выше взбирается обезьяна по дереву, тем лучше виден её зад…
– Ты это к чему?
– К недавнему повышению твоего шефа. Раньше он не заставлял тебя мыть ему дома полы.
– А ладно… Без убытка нет и выгоды.
– И что ты выгадал?
– Гарантию, что и завтра я ему буду нужен.
– Да не с пустыми руками! – Мария припала к сыну, зашептала устало: – Была у меня на днях под вечер эта драная кошка Капитолина. Хвалила бриллиантовые серьги!
Джимми вытянул лицо.
Кто-кто, а уж он-то знал, что это такое, когда жена его шефа нахваливает какую-нибудь вещичку в магазине матери ровно за месяц до дня своего рождения. Именно ровно за месяц. Минута в минуту! (Родилась она, по её рассказам, в закатный час.) Пунктуальная, всё предусматривающая… Дескать, понимаю, у тебя нет денег, но ты, проказник, по-прежнему хочешь служить под крылышком у моего благоверика. Вижу, не тянет быть лишним[35]. Так в чём же дело!? Вот тебе месяц сроку. Знай добывай капиталишко. Покупай да не забудь поднести мне желанный подарок в мой день!
Джимми срезанно привалился плечом к углу в прихожей.
Молчал.
– Ты даже не хочешь поинтересоваться ценой? Спешу обрадовать. Две двести, дорогуша!
– Да-а, начальству не воспретишь жизнь-красотень, – блёклым, чужим голосом буркнул Джимми, как бы на пробу постучав костями пальцев одной руки по костям пальцев другой.
– И что ты намерен делать?
– Я думаю, ты не бросишь меня на произвол беды… Отдашь мне серьги под честное моё слово.
– Не говори пошлостей. Где она у тебя та честность? В прошлом году той же Капи ты брал гранатовые серьги. Полтыщи твоего долга по сегодня висит на мне! Ты боишься не угодить своему начальству. Но без стеснений затягиваешь петлю у меня на шее.
– Клевета! Никакой петли у тебя на шее я не вижу.
Полуобняв Марию, Джимми в подтверждение своих слов повернул её к овальному тёмному зеркалу на стене.
– Смотри. Не петля – колье у тебя!
– А разве это колье не петля? Ты же знаешь, я взяла его лишь до утра. Утром оно снова будет под стеклом. В продаже. И так всегда. Куда пойти, кому показаться – иду в ночном золоте. Золото это только до утра моё, вроде как напрокат самовольно взятое. Носи и дрожи… Во всякую минуту может нагрянуть патрон. Откроются того и жди твои вечные долги – не лишняя ли я сама тогда?
– Бродвейский твой босс далеко, а мой через улицу. Отдай серьги. В рассрочку года за два как-нибудь выплачу.
– Уволь! Как-нибудь подожду отдавать. Хватит с меня бесконечных твоих подарочных долгов. Отныне я верю доллару только вот тут, – яростно потыкала себе пальцем в расправленную ладонь, узкую, длинную, как гроб. – Крайняя уступка: при получении вещи хоть тыщу наличными.
– Бедный я, несчастный я, – холодея, вслух подумал Джимми словами из прилипшей к нему песенки «Цель – грех». – Где я достану тебе целую тыщу?