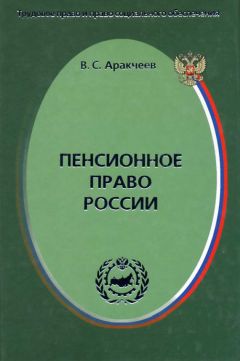Алеша приехал в отпуск на три дня перед отправкой на фронт. Мне было неудобно и холодно в Алешиных объятиях. Мне было так холодно, что стучали зубы…
– Это у тебя, Лизонька, малярия. Ты все-таки подхватила малярию. Это скоро пройдет, – успокаивал меня Алеша.
Он не разрешил мне вставать, все сделал сам: приготовил себе помыться, вскипятил чайник.
– Ты закрой глаза и лежи тихо, – повторял Алеша.
Но когда я закрывала глаза и оставалась со своими мыслями одна, мне становилось еще холоднее… Мне захотелось туда, в ночь, на порожек, в заколдованный мир твоих глаз. Это наваждение не прошло и утром. Но это не была любовь – это было проклятие, яд, который отравил меня! Я никогда тебя не любила и не люблю, я тебя ненавидела, я на тебя молилась. Я тебе подчинялась, но я тебя никогда, никогда не любила! И будь проклят тот день, когда началась эта пытка, это мое несчастье, которое столько принесло зла родным людям. Нет, я тебя не любила так светло, чисто, радостно и бесконечно, как любила Алешу.
Когда Алеша побежал позвонить Татьяне Сергеевне, я встала, полезла в кладовку, вытащила твою проклятую фуражку и положила ее в комнате на подоконник. Я не хотела, чтобы ты, придя сюда в дом и не увидев своей фуражки, подумал обо мне, что я боюсь Алеши и уже готова лгать. Нет, лгать Алеше я не могла и не хотела! «Пусть будет все так, как будет, – думала я. – Вот только бы согреться мне».
Сколько я ни надевала на себя теплых вещей, мне все было холодно. Так я и ходила по комнате в трех кофтах, а на улице было столько солнца, ребятишки бегали босиком. Город жил своей обычной жизнью. И я тоже должна была жить обычной жизнью… Я решила накормить Алешу его любимым блюдом – пловом. Пока мясо тушилось, я выгладила любимую Алешину белую рубашку, достала его костюм. Я хлопотала по хозяйству и ни на минуту не забывала о том, что там, на окне, лежит твоя фуражка. Плов получился на славу – все зернышки риса отдельно, жир на баранине светился янтарем… Это меня немножко согрело.
В это время в коридоре раздались шаги, много шагов. Вошли веселый, возбужденный Алеша, Татьяна Сергеевна и ты. Но зачем ты-то пришел? Зачем? Это я так говорю сейчас, а тогда видеть тебя было для меня какой-то ненасытной потребностью.
– Лизонька, ты встала! – забеспокоился Алеша. – Ложись! Ложись! Я сделаю все сам. Посмотри, мама, нет, ты возьми ее пальцы – это же ледяшки, да и только.
Я сердито сказала, что я здорова и не нужно меня опекать, и еще говорила какие-то глупости и думала только об одном: кто же первый заметит фуражку и что я отвечу?
– Жена твоя просто волнуется, – сказала Татьяна Сергеевна и добавила так же громко и отчетливо: – Попробуй тут не волноваться, когда все так смешалось.
Плова было мало для всех, я же готовила на одного Алешу. Я вымыла еще рису, который остался у меня в мешочке, и высыпала его в почти готовый плов. И тут же спохватилась: что же я наделала! «Ничего, пока я приготовлю на стол, он дойдет», – подумала я. Но плов так и не дошел. Готовый рис совсем разлезся в сплошную липкую массу, а сырой так и остался сырым, как будто камешки. Таким и пришлось его подавать на стол. О этот плов! Он окончательно сделал меня несчастной… Алеша уплетал за обе щеки и хвалил, целуя поминутно то меня, то мать. Ты тоже поддерживал Алешу. Татьяна Сергеевна ничего не говорила. Ее тянуло к окну, как магнитом. Как и я, она только и видела во всей комнате, что твою фуражку. Я не уловила момента, когда она ее увидела, но, глянув на нее, все поняла. Давясь рисом, я встала, подошла к окну и, засмеявшись слишком громко, так, что все вздрогнули, сказала:
– Николай Артемович, вы вчера забыли у нас свою фуражку. Представь, Алеша, Николай Артемович меня вчера поцеловал.
Я думала, что уничтожу сейчас тебя, мстя за себя и за Алешу, и ждала, что же ты ответишь. А ты засмеялся так добродушно и, как всегда, насмешливо и сказал, обращаясь к Татьяне Сергеевне:
– Только я зашел к Лизе, чтобы передохнуть – никак еще не могу из госпиталя до дому весь путь без остановки проделать, – а тут Иван Денисович с машиной. Я Лизу чмокнул в знак извинения – и бежать. Хорошо, что он подвез: как раз успел к твоему приходу. Трудно без машины. Война кончится – обязательно купим хорошую машину.
Я только собралась сказать, что ты все лжешь, как Татьяна Сергеевна поднялась и быстро подошла ко мне.
– Лизонька! Вы… ты нас никак за родных не хочешь признавать. Мы тебя как дочь любим с отцом, а ты нас чуждаешься… – говорила Татьяна Сергеевна, смотря мне в глаза. Мне показалось, что зрачки у нее вертятся… вертятся… вертятся. И, сжав мою руку так, что на ней потом долго были синяки, тихо, одними губами, обнимая меня, прошептала: – Опомнись! Зачем ему знать о всех наших мерзостях?
И я опомнилась. Я поняла, что хотела казнить не тебя и себя, а Алешу, и отступила. Алеша, увидев, что Татьяна Сергеевна меня обнимает, обрадовался:
– Мама, Лиза, я всегда говорил вам, что вы полюбите друг друга, я знал это! – и, повернувшись к тебе, сказал: – Давайте выпьем на брудершафт! Николай Артемович, почему я всю жизнь говорил вам «вы»? Нам всем нужно быть на «ты»! Давай, отец, выпьем! Теперь я буду звать тебя отцом. Согласен?
– Да-да! Как это будет хорошо, Алеша! – обрадовалась Татьяна Сергеевна, обнимая сына.
Зачем был нужен этот фарс, этот жуткий фарс? Алеша был растроган – подействовало вино. Алеша обнял тебя, и ты обнял его – и потолок не упал на вас, нет, не упал. Потом вы еще выпили, и Алеша сказал:
– Ну и славно! Теперь у нас настоящая семья, – и заставил меня и Татьяну Сергеевну выпить и поцеловаться. И, самое главное, он заставил меня поцеловаться с тобой. Твой поцелуй был не отцовский, и стыд до сих пор сжигает меня за этот второй поцелуй.
Все эти три дня, пока был Алеша дома, я поминутно ловила себя на мысли, что мне с ним скучно и тяжело притворяться, а лгать было необходимо. Этот ледяной холод только меня и выручил. Меня всю трясло, и Алеша приходил в отчаяние, что на меня свалилась малярия. Все эти три дня он только и делал, что поил меня чаем, клал грелки, заставлял пить хину и хлопотал по хозяйству: починил утюг, забил дыры в полу, которые прогрызли мыши, и еще нашел себе множество дел. Почему-то мне казалось, что это приехал не мой Алеша, а его двойник-близнец. Все у этого было не так: кадык, которого раньше не было, волосы ежиком, красный цвет лица и руки, огрубевшие, со слишком коротко подстриженными ногтями. Только когда он сел в вагон, я вдруг поняла, все поняла, что безвозвратно потеряла. Но вагон уже поплыл, и за ним побежала Татьяна Сергеевна, а я повернулась и быстро пошла с перрона, чтобы не встречаться ни с ней, ни с тобой.
Алеша уехал. Я ходила словно потерянная. Я опять перечитывала его письма, обнимала его вещи, носила его рубашки, бродила по тем местам, где родилась и жила наша любовь, писала ему иступленные письма, клялась в вечной любви и верности. Каждая строка этих писем была правдива и искренна.
…Новая волна эвакуированных затопила наш город. Госпиталь собирался эвакуироваться. Я больше не хотела бежать в глубь страны. Я мечтала стать разведчицей, но мои познания в немецком языке оказались слишком ничтожными. Идти же медицинской сестрой не хотелось. Мне тогда казалось, что это все равно, что остаться в госпитале. Нет, это, как я потом убедилась, далеко не все равно.
Написав обо всем Алеше и не дождавшись от него письма, я сдала все документы в военкомат. Целую неделю я не видела ни тебя, ни Татьяны Сергеевны, хотя по коротким запискам, которые ты бросал в почтовый ящик, знала, что ты приходил ко мне дважды. Я сначала порвала эти записки, а потом склеила их и спрятала.
Еще очень далеко, еще невероятно далеко от крыльца своего дома я почувствовала, что ты там, что ты ждешь меня. Я собиралась повернуть обратно и уйти к морю, но так и дошла до своего дома, до акации, в тени которой ты стоял. Ты и тогда страдал. Лицо твое было словно маска из белого гипса. Ты смотрел на меня растерянно и жалостно. И как вздох:
– Я так соскучился… Лиза, Лиза, какое счастье, что вы есть!
Я открыла дверь, и ты вошел в комнату. Я открыла настежь окна, и мы сели на диван. Не помню, но мне кажется, что в тот вечер мы не сказали друг другу ни слова. Мы просто сидели рядом, сидели, не прикасаясь друг к другу, – в этом не было надобности. Мы сидели и молчали. Со стороны – как два чужих человека. Я не знаю, как назвать это чувство. Счастьем? Слишком мало.
В комнате стало совсем темно. Я помню, на дворе стояла страшная духота. Ночь была беззвездная… И вдруг в наш заколдованный мир ворвался смерч – это вошла в темноту, как в пропасть, Татьяна Сергеевна.
– Да, мы дома, – ответил ты и поднялся к ней навстречу.
– Какая прелесть, и ты здесь! – засмеялась Татьяна Сергеевна.
– Да, представь, меня, как и тебя, потянуло к Лизе. Садись, посумерничай с нами.
Ты придвинул Татьяне Сергеевне стул, а сам опустился рядом со мной на диван. Молчать теперь уже было нельзя ни секунды, молчание раздавило бы всех нас троих. И ты говорил, говорил, говорил, а Татьяна Сергеевна смеялась каждой твоей шутке, и часто невпопад. У меня все тело покрылось гусиной кожей. Потом ты поднялся, встала и Татьяна Сергеевна и молча, как будто меня и не было в комнате, пошла к выходу. Ты задержался в комнате. Приподняв меня с дивана, ты крепко обнял и поцеловал меня. Я благодарна тебе за этот поцелуй. Было в нем что-то смелое, гордое.