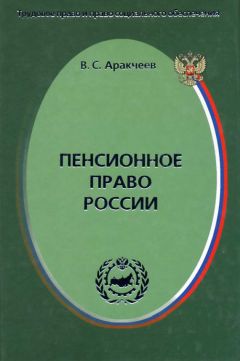В комнате стало совсем темно. Я помню, на дворе стояла страшная духота. Ночь была беззвездная… И вдруг в наш заколдованный мир ворвался смерч – это вошла в темноту, как в пропасть, Татьяна Сергеевна.
– Да, мы дома, – ответил ты и поднялся к ней навстречу.
– Какая прелесть, и ты здесь! – засмеялась Татьяна Сергеевна.
– Да, представь, меня, как и тебя, потянуло к Лизе. Садись, посумерничай с нами.
Ты придвинул Татьяне Сергеевне стул, а сам опустился рядом со мной на диван. Молчать теперь уже было нельзя ни секунды, молчание раздавило бы всех нас троих. И ты говорил, говорил, говорил, а Татьяна Сергеевна смеялась каждой твоей шутке, и часто невпопад. У меня все тело покрылось гусиной кожей. Потом ты поднялся, встала и Татьяна Сергеевна и молча, как будто меня и не было в комнате, пошла к выходу. Ты задержался в комнате. Приподняв меня с дивана, ты крепко обнял и поцеловал меня. Я благодарна тебе за этот поцелуй. Было в нем что-то смелое, гордое.
Я осталась одна в своей комнате. Но я не чувствовала себя одинокой. Пусть ты и ушел, держа под руку Татьяну Сергеевну, но для меня-то ушла твоя строгая, бездушная тень, которая, я уверена, всю дорогу читала Татьяне Сергеевне нравоучения о благородстве.
Ты приходил теперь ко мне каждый день. Мы не целовались, не обнимались с тобой. Мы просто были рядом, говорили о посторонних вещах, смеялись, пили чай. Ты читал мне свою докторскую диссертацию и советовался со мной так, как будто я была твоим научным руководителем или равноценным коллегой. Часто рядом с нами была Татьяна Сергеевна, но она, странное дело, ничем не мешала нам. Конечно, без нее было лучше, но если была рядом она, мы легко с этим мирились. Теперь я часто думаю о том, какую нестерпимую муку пережила Татьяна Сергеевна. Ведь она была чуткая, умная женщина, гораздо умнее меня, и любила тебя – значит, все видела, все понимала лучше нас с тобой.
Потом ты опять заболел. Ты часто болел в то время.
Да, ты заболел, и Татьяна Сергеевна пришла ко мне и просила идти с ней вместе к тебе. Ты не хотел есть, не хотел принимать лекарство до тех пор, пока не увидишь меня. Она сама мне об этом сказала как о чем-то вполне законном.
Я заметила, что, когда ты заболевал, она переставала меня ревновать. И опять начиналось все снова: ночью дежурство в госпитале, днем – у твоей постели. А когда, получив от Алеши письмо, я спохватывалась, оглядывалась на все, что со мной происходит, и выдерживала несколько дней одиночества, как избавление приходила Татьяна Сергеевна и просила меня:
– Лиза, но… Лиза, вы же не хотите, чтобы он умер с голоду! Мы с вами здоровы, а он болен…
И я шла, я мчалась к вам, и, крепко сжав мою руку, Татьяна Сергеевна еле поспевала за мной.
Так прошло тридцать дней – целый месяц. Мы с Татьяной Сергеевной, как старшая и младшая сестры, боролись с твоей болезнью, забыв себя, делали все, чтобы облегчить твои страдания. Да, в те дни мы были с ней самыми близкими друзьями. Ну, а потом ты стал поправляться, и мы снова стали с ней врагами. Ненавидела она меня люто, хотя по-прежнему была со мной внешне добра.
Теперь о том утре… Татьяна Сергеевна была вызвана куда-то в другой город на консилиум. Она забыла мне оставить деньги, чтобы кормить тебя, а собственных у меня не было. Спросить тебя я стеснялась, я ведь и до сих пор стесняюсь говорить с тобой обо всем, что касается житейских вопросов. Занять я тоже нигде не могла: мои личные знакомые были люди бедные. Занимать у ваших знакомых мне не хотелось, чтобы как-то не скомпрометировать тебя и Татьяну Сергеевну. Мать тогда купила теплое пальто и была без денег, но зато дала практический совет: «Карточку-то свою Татьяна Сергеевна оставила, да его, да твоя – вот и деньги. Выкупай хлеб да продавай. Он-то хлеб, чай, совсем не жрет, ты тоже как птичка, вот тебе и деньги. На пятерку дешевле отдашь – с руками оторвут».
Я так и сделала. На другой день рано утром, выстояв в очереди, выкупила в киоске хлеб и побежала на базар. Сперва никак не решалась подойти к тому месту, где толпился народ, покупая и продавая пайки хлеба. Стояла в сторонке, обернув хлеб газетой. Так и не развернув хлеб, я уже собиралась уйти, когда подошла ко мне женщина.
– У вас не хлеб?
– Да.
– Ну, давайте! – Она выхватила у меня сверток и, даже не развернув, бросила его в корзинку. Потом уже спросила, сколько он стоит. Я пробормотала:
– Сколько дадите…
– Эх ты, торговка! Хорошо, что на честную напала. Тут, поди, два кило…
– Два, два, – подтвердила я (вы с Татьяной Сергеевной получали по восемьсот граммов, а я четыреста, как сейчас помню).
– На, получай шестьдесят пять рублей. Хлеб-то продают килограмм по сорок рублей, да у меня больше нету, а ты, видать, не обидишься. Другой кто и вовсе бы тебя надул… – продолжала словоохотливая женщина.
Позже мне как-то пришлось ее оперировать, и она узнала меня, и тот смешной и грустный эпизод сроднил нас.
Тогда я так обрадовалась этим деньгам! Побежала, купила немного фруктов, букетик гиацинтов. Их восковые пахучие цветы ты очень любил, и я знала об этом. Купила кислого молока к оладьям, которые собиралась испечь, и побежала к себе домой, чтобы приготовить тебе завтрак и уже принести готовым. Я не пошла в институт, хотя нужно было сдавать зачет. Какой там зачет, когда нужно было жарить тебе оладьи! Я жарила, обжигая пальцы, я еще была тогда неумелая стряпуха. Потом, собрав все в сетку, побежала к вам. Я очень торопилась. Подумать только – уже десятый час утра, а он еще не завтракал! Я спешила к тебе.
Вот и лестница ваша, вот и дверь. Я хотела открыть замок английским ключом, но, открыв, поняла, что дверь изнутри закрыта на цепочку, чего ты никогда не делал, ожидая меня. Я тихонько постучала – никто не откликнулся. Я постучала сильнее – опять молчание. Тогда, думая, что ты уснул, я стала стараться открыть цепочку сама. Прежде чем мне это удалось, я изодрала себе все руки и думала, что ты будешь целовать их. Я открыла дверь и на цыпочках вошла в твою комнату.
– Кто там?
– Это я! – рассмеялась я, думая о том, сколько чудесной теплоты сейчас зазвучит в твоем голосе.
– Кто это? – переспросил ты.
– Я, Лиза.
– Убирайтесь вон!
– Что?
– Убирайтесь немедленно вон!
Думая, что ты шутишь, я поставила все на буфет и вошла к тебе в комнату. Ты не шутил. Глядя куда-то поверх меня, ты повторил:
– Уходите!
– Николай Артемович!..
– Уходите! Немедленно, сейчас же уходите!
– Я принесла вам завтрак, там, на буфете…
– Забирайте свой дурацкий завтрак и убирайтесь вон!
Я повернулась и пошла из комнаты, пошла, еще не веря, что ухожу навсегда, думая, что вот сейчас ты крикнешь:
– Лиза, остановитесь, все это шутка!
Но ты молчал. Я вышла в столовую и остановилась около буфета. Как же мне было уйти, не накормив тебя?
– Вы еще здесь? Да убирайтесь же вон! Или вы оглохли?
Я слышала, что ты встал с постели; в дверь мне было видно, что ты направляешься ко мне, худой, огромный в белом белье… Я вышла, закрыла дверь, как свою жизнь. Но, видно, тебе всего этого было мало. Открыв широко дверь, вслед за мной ты выбросил цветы, оладьи, банки, обрызгав меня и всю лестницу киселем. Подобрав ударившийся мне в спину букетик гиацинтов – мне их было жалко оставлять на грязной лестнице, – я вышла на улицу. Вот и все. Как говорят японцы, помни о смерти. Я сказала эти последние три слова вслух, и какой-то прохожий, решив, что я обращаюсь к нему, спросил:
– Что?
– Думайте о смерти.
– О чьей?
– О своей! – в тон ему ответила я и побрела домой…
* * *
Дверь дергали, стучали громко кулаком или ногами. Адам, плохо понимая, где он находится и в чем дело, прислушивался: откуда гром?
– Сейчас! Сейчас открою! – крикнул он наконец.
Дверь перестали дергать. Адам пристегнул кое-как култышку. ТЕТРАДЬ ЛИЗЫ заложил очками в том месте, где его чтение прервали, сунул тетрадь глубоко под матрац и пошел открывать дверь.
– Спал, что ли? Столько стучу, стучу! – Это был Митька Кролик. – Можно я на море, а? Все пацаны идут, можно? – В Митькиных глазах было столько покорности и зависимости, что Адам смутился. Ему стало очень приятно, что Митька спрашивается у него, как у отца или у родного деда.
– А заплывать не будешь?
– Что ты! Честное пионерское! Во! – Митька щелкнул ногтем большого пальца по зубам, а потом провел им по горлу. – Во! Век свободы не видать!
– И кто тебя блатному учит! – нахмурился Адам. – Ты что, жулик? Ты что об этой свободе знаешь? Чтобы эти ухватки выбросил! Понял?
– Понял! – виновато потупившись, сказал Митька. – Так я пошел?
– Иди! Слово дай, что заплывать не будешь и в четыре часа вернешься. Это приказ. Понял?
– Так точно!
– Смотри: кто слово не держит – последний человек!
– Ага! – весело крикнул Митька, бросившись к двери.
– Обожди! – остановил его Адам. – Хлеба и огурцов возьми, там проголодаетесь.
– Ты на Больничной улице живешь, что ли? – как бы между прочим спросил Адам, когда Митька отрезал хлеб.