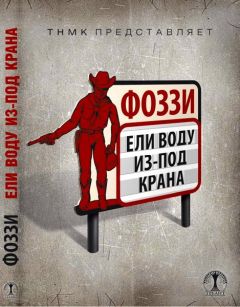Янкель отвернулся, осторожно повёл свою малолетнюю дочку дальше. Дочка запереваливалась на колёсных ножках как обезьянка, одетая в женское. Х-ха, кипарис! Наплодил чудес ходячих.
Фрида пошла с Мойшиком следом. А тот незаметно теснил её. Осторожно подталкивал к газировке. К тётеньке с двумя красными колбами. «Ха! Ха! Ха! Кипарис точёный, купи лучше детям воды с газом!» Янкель остановился, полез за бумажником.
Дома – с чёрной линзой наискосок, как пират на пенсии – Янкель пытался наставлять жену. Однако исподтишка как-то. Разглагольствовал о том, что даже дурак имеет себе хитрость. Даже дурак. Придерживает в запасе. Любой. Придурок. Стерженёк в нём есть, тайна, моментик, которым он никогда не поступиться. Маразматик-старик или, к примеру – старуха. Ничего не соображают. А кое-что – и соображают. И очень хитро. О денежках, например. О своих припрятанных деньжатах. Ещё ли там о чём-то тайненьком. На чём всё у стариков и старух держится. Тайный стерженёк у них всегда есть. Моментик. Разве они выдадут его, обнаружат, поступятся им. А так дураки и дуры, пожалуйста. Ничего не скрываем! А кое-что – и скрываем!
Разговор был очень хитрым, шёл при родственнице Фриды, её двоюродной тётке Риве, живущей на первом этаже, у которой якобы имелись денежки. Припрятанные. И немалые. От удивления рот старухи стал походить на колечко в носу у папуаса: отвечать или не отвечать? Фрида, снимающая с Мойшика выходное, подмигивала ей. Мол, сейчас, обожди. И спрашивала сына: «Мойшик, как папа чихает?» Шестилетний Мойшик изображал тут же. И голосом, и лицом: «Ирр-ра́хи!» Старуха смеялась. Потрясывала розовым колечком под носом.
Янкель мрачнел: «А как мамочка твоя преподобная чихает? А?» Янкель ехиднейше выделывал перед сыном как бы козой рогатой. «Как? Идиотик несчастный?» Мойшик и тут бесстрашно выдавал: «А мама: апры́сь-апры́сь!» Фрида не унималась: «А папа как? Папа?» – «А папа – Иррр-ра́хи!» Под смех женщин Янкель выскакивал за дверь. Снова всовывался: «Если бы все были умные как он – то вже они были бы идиоты!» Ответом ему был хохот. С неодушевлённостью лампаса дёргалась на тёте Риве парализованная рука. Янкель смотрел. Э-э, несчастная! И ещё смеётся! Шарахал дверью. Быстро ходил по коридору. Душа кипела. По телефону разговаривала ещё одна родственница. Циля. Опять со стороны жены. Распахивал дверь. Показывал пальцем в коридор: «Сколько ей можно говорить по телефону?»
– Три минуты ещё не прошли, – смотрела на часы Фрида.
– «Три минуты…» – фыркал супруг. – Много ты понимаешь!
Родственница Циля начинала тараторить, косясь выпуклым глазом на Абрамишина. Старалась успеть.
– Да она же в три минуты наговаривает целых пятнадцать минут!
– Иррр – ра́хи! – подтверждал бесстрашный Мойшик.
8Дождик стряхнулся с неба коротко, просто. Как вода с рук. Абрамишин шёл. Солнце сияло, будто розетка в петлице. Из репродуктора на Пушкинской летел марш духового оркестра. Дружно булькали кларнеты, жизнерадостный, попыха́стый, постоянно выскакивал над всеми тромбон. Ноги сами подпрыгивали, перебивались в марш. Плечи расправить, грудь дышит широко.
Под этот марш военного оркестра Абрамишин шёл к большому дому, где на первом этаже расположился Институт красоты, шёл на встречу с Молибогой. Не забыть по имени-отчеству! там-там! тарата-там-там-та́м! Анатолий Евгеньевич! тра́м-там-тарата-там-там-та́м! непременно! да-дьЯра-та́м-там! да-дьЯра-та́м-там! погоны бы ещё! фуражку! орден! совсем бы другое дело! да-дья́ра-там-там-та́м!
…По вечерам двухэтажный дом на окраине городка торчал в опалённом зёве заката одиноко, приготовленно – словно последний зуб пенсионера. Издалека, неотвратимо, не в силах бороться с собой, к нему прокрадывались Роберт и его невеста. Словно убийцы на место преступления. Убедившись, что весь дом спит (только на втором этаже приглушённо стрекочет швейная машинка за накалённой шторой), сразу же принимались целоваться. Не снимая очков. Очки стукались. Так, наверное, стукались бы слепые черепашки. Панцирями. Делая передышку, замирали. Щека к щеке. С теми же очками. Теперь уже как с перецеплявшимися телегами. Отстранялись, наконец, друг от дружки. Похудевшие их лица пылали. Изнурённо смотрели вверх, в высокую ночь, где в текучих облачках упирался и упирался упрямый парус луны… Снова целовались. Молча, без единого слова, изнуряя себя… Мойшик, чтобы хорошенько всё разглядеть, вытягивался из раскрытого окна второго этажа. Однажды нечаянно столкнул вниз двухлитровую банку, полную воды. Банка полетела и жахнулась о камень… Жених и Невеста, точно гигантские две птицы, неуклюже сорвались и побежали. И вспорхнули с земли где-то уже в темноте… Мойшик отпрянул от подоконника. Под раскатистым храпом Янкеля пополз к своей кровати. И в чёрной ночи осталось висеть одно только неспящее окно в доме – гибрид колеса от телеги и гроба, за которым Фрида строчила и строчила на машинке…
9Деликатно, чуть не на цыпочках, Абрамишин продвигался длинным коридором. От духоты двери косметических кабинетов были открыты. В комнатах лежали женские лица. Как сакраментальный рукотворный пластилин. Ядовито-зелёный, бурый, чёрный, белый. Окружённый трельяжными зеркалами, как на подносах перед ними – точно сплошной Ленин в крохотных мавзолейчиках! Мороз, знаете ли, по коже. Зато короткие хитоны на косметологах были вольными: в боковом разрезе можно увидеть или убойное бедро, высоко и туго закольцованное кружевом трусиков, или забуйствовавшую вдруг, как в садке (косметичка принималась активными шлепками оживлять Пластилин), белорыбицу-грудь.
Абрамишин в смущении опускал глаза. Абрамишин словно выпускал смущения пар: ху-у-у-х, знаете ли. Присел, наконец, на полированную скамеечку перед кабинетом главврача рядом с какой-то женщиной. Спросил, принимает ли уже Анатолий Евгеньевич Молибога.
…На свадьбе дяди Роберта Мойшика поразили не сами Жених и Невеста, сидящие истуканами, не гости, которые всё время кричали, желая, чтобы они постоянно вставали и целовались (у закрывающей глаза Невесты губы были уже как ранки), не то даже, что свадьба происходила во дворе и шумела на всю улицу… а скрипка. Скрипка в руках отца. Откуда он её взял? В доме же её никогда не было? Это точно! Он удерживал её не на плече, а на пузе и, выпятившись, пилил и пилил смычком. Какой-то усач лупил в большой барабан, а он дёргал, дёргал смычок, выдёргивая из скрипки один и тот же, высокий, надсадный, надоедливый мотив какого-то танца. Бухающий барабан и скрипка. И всё. Ни одного больше инструмента.
Вдруг отец прервал игру, постоял и, будто дверь, повалился вперёд. Упал и подкинулся на земле. Со скрипкой, как с латой рыцарь. А усатый сел прямо на барабан. Пробив кожу, крепко застряв в нём и опустив голову, как после боя. Его подняли, и он пошёл куда-то с барабаном на заду. Не в силах распрямиться. Как будто с большой какой-то болезнью… Мойшик запомнил это на всю жизнь!
10Нос женщины имел вид лекала. Сидя рядом с ней, Абрамишин старался не смотреть на него. Женщина напряжённо остановила взгляд перед собой, зажав на коленях сумочку. Бедняжка. Абрамишин не удержался, придвинулся к женскому уху: «Вы тоже… по поводу носа?» Женщина не ответила. Как будто не было вопроса. Только крепче сжала сумочку. Бедняжка. Стыдится себя. Абрамишин снова придвинулся: «Вы не ответили… Я насчёт носа…» – «Ещё чего!» – сказала женщина почему-то грубо и начала краснеть. Бедняжка. Сейчас заплачет.
Абрамишин хотел пожать её руки своей участливой, всё понимающей рукой… но тут из кабинета вышел невысокий мужчина. У этого нос с лица свисал. Как кит. Как микрокит, знаете ли. Как китёнок. Мужчина его понёс куда-то. Ринофима. Классическая ринофима. Абрамишин улыбался. Он был среди своих. Висящие сизые киты, лекала, попугайные носы, завёрнутые так, что не найти ни начала, ни конца; уши, взлетающие с головы. Он давно раскрыл тайну этого заведения. Дожидаясь теперь, когда женщина выйдет из кабинета, он потихоньку рассказывал тайну себе, весело поглядывая по сторонам и потирая коленки. Сейчас. Сейчас его очередь. Сейчас, совсем скоро.
После женщины с фантазийным носом в дверь постучал игривым парольчиком: Трам-та-та-там! Приоткрыл дверь. «Можно к Вам?» Широкое лицо Молибоги сразу наморщилось. Не могло скрыть досады. Врач за столом хмурился, пока этот вертлявый человек в великом клоунском пиджаке расточал приветствия, возгласы, улыбки, справлялся о здоровье. Пока он не присел, наконец, на краешек стула и не выпрямился столбиком. Весь внимание и весь ожидание, чёрт бы его задрал совсем!
Загнанный в угол, Молибога перебирал какие-то бумажки на столе. Косился на банку с цветами. Нужно начинать трудный разговор.