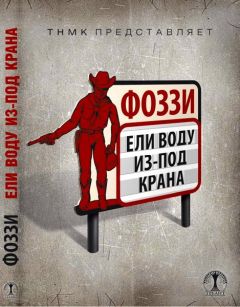– Пенсионеры, – небрежно сказал кавалер. В раздаточном окне для него сфотографировалось целое умильно-свинное семейство поварих. Младенчески розовое, знаете ли. Помотал им рукой. Будто бы тяжёлым дендинским стягом. Приветствую, дорогие!
Буфетчица спросила: за что пьём?
– За мою удачу… Скоро вы меня не узнаете… – загадочно сказал герой.
– Почему это мы вас да не узнаем? – Глотнув, Официантка попыталась кокетну́ть всеми рюшами на кофте, встряхнув их.
– О-о! Скоро я буду совсем другим человеком… Совсем другим…
Кавалер поигрывал чайным стаканом, любуясь золотом вина. Пенсионеры жевали. На ум приходили тренажёры, которые забыли выключить. Свинное семейство из раздаточной вываливалось.
Протянув руку, взял Официантку за подбородок. Заглянул в самый тайный угол её души. Заглянул, как ночь. Отпустил. Потрепал по щеке. Оставил двадцать пять рублей на стойке. Пошёл усталой протокольной походкой гангстера, левую руку, как пистоль, заложив в карман пиджака, а правой поматывая у плеча. Как ленивым дендинским стягом. Официантка чуть не описалась. «Наследство ухватил? В Америке!» – «Не иначе!» – подхватила Буфетчица. – Или здесь где хапнул. Миллион!» Сама испугалась цифры. Но тут же успокоила себя: «А чего! Вполне!»
Абрамишин же, как только завернул за угол кафе, из роли сразу выскокнул. Поддал козликом… и припустил по улице. Самым натуральным образом. Как будто на стометровку. На ГТО. И-э-э-э-эх!
…В куполообразных окнах дома на окраине периодически возникали все его обитатели вместе с детьми. Особенно по воскресеньям. И дружно принимались кивать и разговаривать, когда кто-нибудь проходил мимо и приподнимал в приветствии шляпу или кепку.
Высвистывая грязью, изредка проносился грузовик. Цветки на обочине дороги начинали трепыхаться, уделываемые этой грязью, словно от неописуемого восторга ребятишки.
Как далёкий барабанный бой, появлялась на дороге Почекина. Барабан приближался. Почекина поигрывала ножкой. Ведомый Офицер шёл в громаднейших галифе. Как две басовые балалайки по дороге переставлял. У Янкеля отпадала челюсть. А Фрида начинала возмущаться. И всё повторялось: Почекина суетливо заводила балалаечного в мазанку, и оттуда сразу выскакивали её дети, Генка и Жанка. Фрида не переставала ругаться, а Янкель говорил странную фразу: «Когда тебе двадцать – ты идёшь на ярмарку, когда тебе далеко за сорок – ты вже возвращаешься с неё…» И фразу эту Фрида от злости даже пропускала мимо ушей…
Всё менялось в мазанке только с приездами матери Почекиной, бабушки Генки и Жанки. Приездами ежегодными, в конце лета, из какой-то Тёплой Горы, находящейся где-то на Урале. Временно Почекиной приходилось прикрывать лавочку. Вообще она куда-то исчезала. Дети сразу преображались. Похаживали возле дома сытые, гордые, в чистом, в заштопанном. Новые сандалии на них появлялись, на Жанке вдобавок чулки. «Мы с Жанкой растём, как бурьян при дороге!» – хвалился Генка Мойшику, прыгая с ним на одной ножке возле мазанки. А в это время Жанка пригнувшейся козой неумело сигала через новую скакалку, быстро запутываясь в ней и налаживая каждый раз на землю заново. Две женщины неподалёку посматривали на детей, разговаривали тихо: «…Как представлю только, что дети всё это видят… слышат по ночам – сердце кровью обливаются… Я б убила её, убила!» Фрида советовала забрать детей. Совсем. Увезти. «Забирала, милая Фрида, забирала! Так приехала, гадина, с милицией отобрала – не пьёт ведь она ни рюмки, работает, просто б… врождённая. Как же отберёшь? Попробуй, докажи. Чуть что – жених! Сватается! Господи, что делать!» Женщины смотрели на детей. Генка примеривался к канаве с подсыхающей грязью. «Ну, бабушка, сейчас у тебя сердце ещё раз кровью обольётся». Изо всех сил разбегался – и прыгал через канаву. Конечно же, в грязь. Правда, уже на другом берегу канавы. Бабушка бежала к внуку. «Да миленький ты мой! Расшибся!» – «Ничего, – давал себя приводить в порядок Генка. С новыми сандалиями уже как с грязноступами. – Я ещё не так могу. Вот увидишь». Мойшик завидовал Генке: отчаянный какой!
Где-то через неделю приходила сама Почекина. Не обращая внимания на причитания, на угрозы, на мольбы матери, ставила на керогаз ведро воды. Проверяюще поглядывала вокруг. Так проверяет себя, надёжность свою, граница. На виду у всяких беснующихся басурман и шведов. С ведром, полотенцем и куском хозяйственного мыла шла из дома двором к сарайке. Ведро плыло словно само по себе, помимо болтающейся сбоку Почекиной. Самодовольно Генка показывал Мойшику в раскрытую дверь свою голую мать. Как достопримечательность улицы имени Благоева. Мойшик смотрел во все глаза. Почекина стояла к мальчишкам спиной с лоснящимися тугими ягодицами, намыливала у себя под мышками. Ноги её были как замысловатые корни. Вдруг обернулась со злым, окрысившимся лицом. Сразу схватила полено. Ребятишки брызнули от сарая в разные стороны. «А дверь закрывай! А дверь закрывай!» – кричал перепуганный Генка.
12Бутылки шампанского стояли ротой наполеоновских солдат. В золотых киверах.
Отсчитав деньги, взял себе одну. На сегодняшний вечер. Вложил в купленную целлофановую сумку. В кондитерском попросил коробку шоколадных конфет. Нет, нет, вон ту, перевязанную ленточкой и с цветочками. На крышке коробки. Для девушки, знаете ли.
В овощном пришлось постоять. Женщины. Сгрудились за марокканскими апельсинами. В проволочных колясках – горки крупных апельсинов. И сразу набежали. Да, да, за этой дамой, лично. Да, а вы за мной. Снисходительно улыбался. Он один знал характерную черту этих женщин. Стоя в очереди, ни одна из них (ни одна!) не приготовит денег заранее. Начинают рыться в кошельках, в сумках, только тогда, когда товар у них в руках. (Вот он! Можно ощупать его!) Только тогда. Поразительно! Роковая последовательность!
Приходилось возводить глаза к потолку, призывая всевышнего полюбоваться на это. Вот, пожалуйста – роется в сумке. Даже ощущаешь большое беспокойное бедро её. Горячее. Ёрзающее, знаете ли, о твою ногу сквозь шелковистый материал платья. И куда деться прикажете? Не замечает. Ёрзает. Ищет кошелёк. Хотя сумка доверху забита апельсинами, за которые она должна была заплатить пять минут назад! Пожалуйста!
Наконец и ему взвесили полтора килограмма. И ещё два настоящих, пористых, пропотелых лимона купил. К чаю, знаете ли. Люблю.
Выбрался из очереди с уже довольно тяжёлым пакетом, перехватывая поудобней. Всё это на вечер. На бурную ночку. С Ниной. Фамилия интересная: Подойко. Нина Подойко. В жилуправлении работает. Но волосы! Волосишки её! Нет, нет, лучше не вспоминать раньше времени. Нет, нет, забыть до вечера! А вот дамская причёска навстречу идёт. Времён Пушкина. Татьяна Ларина. Две виноградные грозди по бокам головы. Что-то новенькое. Прелесть, знаете ли. Извините, виноват. Куда смотрю? Куда надо, туда и смотрю. Какой хам. Всё настроение испортил. Ох, уж эти пенсионеры! Ничего их не интересует. Только бы жевать. Тренажёры!
…В один из своих приездов из Тёплой Горы бабушка привезла внукам взрослый велосипед. Мужской, довоенного выпуска, но с ободами колёс никелированными, прозрачными как озёра. Велосипед остался памятью о сыне, который погиб в самом начале войны. Вот так, вроде бы подарок теперь от него. Племянникам.
Сняли седло, навернули на раму оторванный от старой телогрейки рукав, и девятилетняя Жанка ехала, осторожно крутя педали, облепленная бегущими ребятишками, к которым всегда вязался какой-нибудь приблудный долган, орущий больше всех, вообще неизвестно откуда взявшийся. «Ой, держите меня! – пищала Жанка. – Ой, не отпускайте!» И падала. Как плаха. Придавив вдобавок какого-нибудь засуетившегося пацанёнка.
Толком кататься она так и не научилась. Генке было рановато на этот велосипед. Однако Генка не был бы Генкой, если бы не взобрался на него. Сопровождаемый тем же бегущим кагалом (и примкнувший долган лет четырнадцати бежал тут же), командовал: «Бросай!» Его бросали. Он даже не вилял, как Жанка, а сразу мчался вбок. Пикировал в мазанку. Достав из-под велосипеда храбреца, ребятишки его снова подсаживали и бежали. (Долган болтался над всеми, будто утаскивал всю кучу, неутомимый, как флаг.) «Бросай!» – командовал Генка. Почему-то в одном и том же месте улицы. И велосипед мчался к мазанке, падал там вместе с лётчиком. Долган показывал, как надо. Наяривал педалями как сумасшедший рыболов. Все бежали за ним. Боялись, что удерёт. Но долган – заворачивал. И, пригнувшийся, мчался назад: засученные ноги работали выше головы! Через неделю Генка поехал. Свободно вихлялся на рукаве телогрейки. Или повихляется, повихляется, как следует разгонит машину – и парит на педалях. Как сокол. Стал катать даже Мойшика. На раме. И две женщины, прервавшись поносить Почекину, с умилением смотрели. Бабушка поворачивалась к Жанке: мол, что же ты? Почти в два раза младше тебя? «Вот если бы дамский…» – куксила губы надменная Жанка. Глаза её были как чеснок. Как уко́сые доли чеснока.