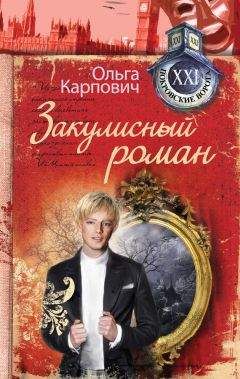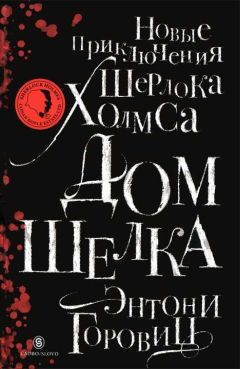Начали сгущаться сумерки, темно-фиолетовое предзимнее небо висело между колоннами театра. Голые, черные ветки деревьев усыпаны были мелкими мигающими лампочками. В воздухе метались первые в этом году снежинки. Перед зданием уже красовались афиши, сулившие зрителям удивительную революционную постановку «Возвращение Дориана Грея» с участием звезды европейской сцены Дэмиэна Грина и заслуженной артистки – и прочая, и прочая – Ады Арефьевой. Собственная физиономия на афише мне не понравилась – слишком хищная, а мистер Грин вышел роскошно – вечно юный порочный ангел с безнадежно усталыми, больными глазами.
Я вбежала в здание со служебного входа. Моя героиня – герцогиня Монмаут – появлялась только во втором действии, поэтому я могла позволить себе приехать позже остальных, которые уже были в сборе. В зале над сценой уже успели укрепить огромный фотографический портрет Багринцева. Наш Мастер был изображен поэтично-задумчивым, комкающим подбородок холеной рукой. Та же фотография красовалась на всех программках, разбросанных там и тут.
Внизу под сценой сентиментальная Ксения установила корзины с цветами. Создавалось полное впечатление, что премьера должна играться сегодня, а не послезавтра.
Я прошла за кулисы, сбросила шубу и постучала в гримерную мистера Грина. Вацлав был уже в гриме Дориана Грея – чистый, наивный, оскорбительно юный фарфоровый мальчик. Он увидел меня на пороге и медленно улыбнулся.
– Что случилось? Мандраж мучает? Могу угостить тебя коньяком.
Я прошла в помещение и прикрыла за собой дверь. За зеркало тоже была засунута программка нашего спектакля – черно-белый Багринцев устало щурился на свет. Я обернулась к Вацлаву и заговорила, стараясь не выдать голосом кипевший внутри гнев:
– Вацлав, что тебе нужно от моей дочери? Я уже поднимала эту тему, но ты, кажется, меня не услышал.
– Мы, может быть, потом об этом поговорим? – спросил он. – Меня с минуты на минуту вызовут на сцену.
– Нет, сейчас, – отрезала я. – И тут не о чем говорить. Я требую – оставь ее в покое. Иначе я приму меры…
– Даже так? – вскинул брови он. – Интересно, какие же?
– Послушай, я не собираюсь мериться с тобой крутостью. Я понимаю, что ты актер с мировым именем, у тебя есть связи и возможности. Но у меня они тоже есть, и в случае, когда речь идет о моем единственном ребенке, я пойду на все…
– Ада, – он прикрыл глаза, – ты пока не слишком убедительна. Пришла угрожать, так называй вещи своими именами, а не нагнетай тумана.
– Хорошо, – кивнула я, – ты знаешь, кто отец Вероники?
– Какой-то бандит? – равнодушно бросил он. – Хочешь сказать, он разберется со мной по понятиям?
– Вацлав, ты отстал от московских реалий. Это тогда он был бандитом. А сейчас – как и все наши бывшие бандиты – он заседает в Думе. Фамилию назвать или так сойдет? Впрочем, ты ее наверняка не знаешь… Разборки не понадобятся, все решится гораздо проще, ты же понимаешь, в каком государстве, хотя бы временно, находишься. Здесь по одному звонку можно быть выдворенным из страны без права получить визу в дальнейшем…
– Я понял тебя, – кивнул он. – Хорошо, допустим, меня ты выдворишь из страны. А что ты сделаешь со своей дочерью, ммм? В ее глазах я только приобрету ореол мученика, пострадавшего за дружбу с ней. А ты и твой бандит из Думы станете для нее отвратительными тиранами, губителями ее юной жизни. Запретами никогда еще никому не удавалось ничего решить. Она сама убежит ко мне. И ты это знаешь.
Он был прав, долбаный доморощенный психолог. Я достала из сумки сигареты, закурила, нашла на подоконнике пепельницу. Мне нужно было добиться, чтобы он не виделся больше с Вероникой, любой ценой. Раз козырей в рукаве у меня не осталось, придется играть в открытую.
Я несколько секунд смотрела на бившийся в окно мелкий белый снег – за недолгое время, что я находилась в театре, на улице уже наступила зима, – затем обернулась и произнесла:
– Хорошо, будем считать, что ты меня победил. Я сдаюсь. Чего ты от меня хочешь? Ведь ты затеял все это только для того, чтобы зацепить меня, я права? Вот я здесь, перед тобой. Говори, что тебе от меня нужно?!
– А вот тут мы переходим к самому интересному, – сказал он, приближаясь ко мне. – Ада, приходило ли когда-нибудь тебе в голову, что ты была единственным человеком в моей юности, к которому я относился всерьез? Единственной девушкой, которую я не считал примитивной, недалекой куклой. Единственной из однокурсников, в чьей одаренности я нисколько не сомневался. Ты была одного со мной уровня, я понял это с первой нашей встречи и никогда уже не мог относиться к тебе равнодушно.
– Постой, – оборвала я с нервным смешком. – Ты что же это – признаешься мне в любви почти через двадцать лет?
– Что такое любовь, – я не знаю, – отрезал он. – Это слово слишком истаскано. Одни именуют им свой страх одиночества, другие – чувство собственности, третьи – похоть, четвертые – инстинкт продолжения рода. Все это не имеет ничего общего с тем, что я испытывал к тебе. Мне нравилось смотреть на тебя, нравилась твоя гордая осанка, взгляд свысока, естественная грация движений. Я любил смотреть на тебя на сцене, когда ты жила своей ролью, – в такие моменты мне казалось, будто кто-то срезает с моего сердца кожу острым ножом. Мне нравилось, как ты ловко и уверенно вела свой джип, как сбрасывала с плеч шубу, как продолжала держаться непринужденно и весело даже тогда, когда у тебя не было уже ни джипа, ни шубы, ни богатого мужа. В тебе было то настоящее, глубокое, чего не было в других.
Он говорил все это горячо, страстно, меряя шагами узкую гримерку. Затем обернулся, прядь пшеничных волос прилипла к покрытому испариной лбу. Я никогда не видела его таким – нервным, издерганным, исполненным горькой иронии над самим собой. Помимо моей воли его слова взволновали меня, заставили сердце биться учащенно и прерывисто.
– Вацек, – постаралась я сказать мягко. – Но ты никогда не говорил мне. Я и не подозревала…
– А зачем мне было говорить? – его рот дернулся. – Я не испытывал потребности в бесплодных излияниях. И чувства собственности, как ты знаешь, был лишен: мне не хотелось завладеть твоей жизнью, твоей душой – да, признаю. Но она была закрыта для меня – твоя душа. Мои поступки не вызывали в тебе никакой другой реакции, кроме слегка брезгливой усмешки свысока. Мне не удавалось пробудить в тебе ни восхищения, ни ненависти, ты была абсолютно, кристально равнодушна ко мне. Разве не так?
Я не знала, что ответить ему. Что я всегда восхищалась и преклонялась перед его талантом? Что его человеческие качества были мне глубоко неприятны, возможно, потому, что он умело прятал все хорошее, намеренно выставляя напоказ цинизм, испорченность и развратность? Если бы нам удалось сойтись ближе, возможно, все могло получиться иначе… Его безупречная внешность, исключительная одаренность, живой, развитый ум, обаяние сделали бы свое дело… Но история не имеет сослагательного наклонения, все вышло именно так, и ничего изменить уже нельзя.
Он не дал мне ничего ответить, продолжил, глядя на меня немигающими коньячно-зелеными глазами:
– Однажды я чуть было не признался тебе. Помнишь, четвертый курс, ноябрь, один вечер в общежитии…
И я вспомнила, действительно, вспомнила тот вечер. Был чей-то день рождения. Мне удалось ненадолго оставить годовалую Нику с соседкой и заскочить в общагу поздравить именинника. Все уже напились. Грохотала музыка. В коридоре отплясывали какой-то дикий танец. В углу комнаты скорчился Влад, глядя на всех стеклянными, пустыми глазами и улыбаясь застывшей просветленной улыбкой. Мне тоже налили отвратительного пойла. Я немного посидела за столом, а затем вышла покурить на общий балкон и увидела там Вацлава.
Он стоял, облокотившись на проржавевшие металлические перила, в накинутом на плечи пальто с поднятым воротником. Порывистый ноябрьский ветер играл его золотистыми кудрями, бледные, покрасневшие на костяшках пальцы сжимали черные драповые отвороты. Он обернул ко мне свою царственную голову, идеальный античный профиль. Печорин, Ставрогин, все герои сестер Бронте в одном лице, кто там еще был демонический и прекрасный в классической литературе? Да нет, боже мой, конечно, нет – воплощенный Дориан Грей, вот он кто.
Я остановилась возле него, закурила. Внизу ветер гнал по улице последние остатки оранжевых и багряных листьев. Над домами нависла седая снежная туча, еще несколько минут – и она лопнет, просыплется над городом своей серой мерзлой трухой.
– Ненавижу осень, – сказала я. – Все эти пахучие золотые листочки, осколки солнца в подернутых льдом лужах. Такая гадость – гниль и умирание.
– Верно, – кивнул он, – мне тоже так всегда казалось. Это все равно что восхищаться румянцем и стройностью чахоточной девицы. Вся красота которой вызвана лишь тем, что она скоро умрет. Нет, я понимаю декаданс, но вот эта эстетизация тлена… Я слишком люблю жизнь, чтобы не наслаждаться мыслью о ее конечности.