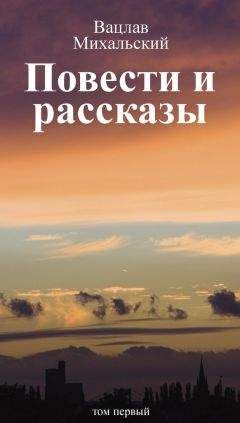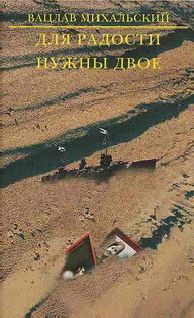Ужесточения нового германского строя практически не задели корневых устоев фамилии, давно уже привыкшей хранить свои капиталы в Швейцарии. К новому порядку старшие в семье относились с брезгливой опаской, хотя это и не мешало им ковать денежки, а юного Фритца они, можно сказать, прозевали, прошляпили.
Фритц был пай-мальчик, учился в закрытом колледже в горной Швейцарии, играл на скрипке. Отец исподволь готовил его в наследники.
Семья Фритца жила в просторном и удобном загородном доме, рядом с родовым замком. Замок построили в конце семнадцатого века, а дом в начале двадцатого.
Замок был красив только внешне, а внутри он состоял из комнаток с каменными стенами и каменными сводчатыми потолками, узкие окна-бойницы почти не давали света, в тесных переходах давило удушливой сыростью. Был, правда, в замке и зал с большим камином, но и там царил все тот же вековой тяжелый, холодный дух. Фритц не любил бывать в замке, зато с удовольствием стоял на широкой крепостной стене и любовался излучиной Рейна, что протекал близко, метрах в двухстах под горой, на которой располагался их замок. Эта картина Рейна, текущего совсем рядом, такого широкого, могучего, сталисто вспыхивающего под солнцем, навсегда стала для Фритца образом родины. Он вспоминал ее и до госпиталя, и в госпитале, и потом долгие шесть лет в русском плену.
Казалось, семья Фритца жила за семью печатями от всех невзгод и печалей военного времени. Но однажды высоко в небе пролетела над замком первая туча английских бомбардировщиков с запада, дня через два-три проплыла другая смертоносная туча – американских самолетов с юга, со стороны Италии, а вскоре Фритц услышал за обедом, как папа сказал дедушке, что русские бомбили Берлин. При этом папа, мама и дедушка тревожно взглянули на Фритца и повторили, как эхо:
– В колледж! В Швейцарию!
– В Швейцарию!
– В колледж!
Весной 1944 года почти всем в Германии уже было понятно, что речь может идти теперь только о защите своей земли, а не о захвате чужой. Юноши и даже мальчишки тысячами уходили в армию, чтобы защитить фатерланд. Юный Фритц тоже мечтал «с оружием в руках»… Его отправили в пансионат, а он сошел на первой же остановке своего поезда и пересел в другой, что шел в восточные земли… Там он записался добровольцем на фронт, чтобы «с оружием в руках»… Записываясь, он предусмотрительно опустил свой титул, приставку «фон», дал ложные сведения о месте жительства и родителях, которые якобы погибли под американскими бомбами. На первых порах все шло как по маслу, Фритц стал солдатом. Наконец ему вручили долгожданное оружие, но отправили не в боевые порядки, а в охрану одного из концентрационных лагерей русских военнопленных. То, что он там увидел, перевернуло все его представления о человечности, чести, благородстве, любви к родине и еще о многом и многом другом, чему в том числе и нет названия. Лагерь представлял из себя прямоугольник голой земли двести на двести метров, огороженный колючей проволокой, по которой был пропущен электрический ток высокого напряжения. У ворот лагеря, считавшегося временным пересыльным пунктом, располагались казармы и службы немцев, за ними шла свободная территория метров на семьдесят, потом ров, а за рвом находились русские военнопленные – день и ночь под открытым небом, на голой, утрамбованной до серого лоска земле. Пищу и воду им подвозили в больших корытах по мосткам, которые в нескольких местах были переброшены через ров. Назвать условия содержания русских военнопленных скотскими было бы большим лицемерием, потому что они были гораздо хуже скотских. Охранники, с которыми пришлось служить Фритцу, особенно возмущались зловонием, которое наносил к их казармам ветер, и тем, что «эти скоты русские» иногда бросались на проволоку, и тогда приходилось отключать электричество и снимать с ограждения распятые трупы. Для уборки трупов – и с проволоки, и по всему лагерю – охрана держала в отдельном загоне небольшую команду русских, которую кормили лучше других, чтобы в них были хоть какие-то силы. Трупы свозили на тачках в яму в дальнем правом углу лагеря, если смотреть со стороны входа и немецких казарм. Первое время Фритц думал, что все другие русские завидуют тем, что содержатся в отдельной выгородке, но однажды он увидел, как молодой русский из команды уборщиков сам кинулся на проволоку под током, и тогда Фритц понял многое такое, что нельзя передать никакими словами. И это понятие осталось в нем на всю жизнь. Так же как сохранился в памяти запах гашеной извести, которой забрасывали трупы в ямах.
Охранники говорили, что из лагеря не убежишь еще и потому, что вокруг сплошные минные поля. Говорили «не убежишь», но, тем не менее, Фритц решил бежать, бежать во что бы то ни стало, любой ценой… Он боялся, что еще немного – и сам бросится на проволоку. Случилось так, что бежать ему не пришлось: его послали в большой немецкий госпиталь, что располагался недалеко в старинном фольварке, послали за медикаментами для своих. На подходе к госпиталю юный Фритц и наступил на нажимную противопехотную мину – из тех, что поставляло в войска его семейство.
Папиков и Александра так хорошо «почистили» раны юного Фритца, что он быстро пошел на поправку. Фритц лежал в палате на двенадцать человек. Все, кроме него, были тяжелые или средней тяжести. Папиков специально определил его в такую палату, чтобы Фритц не боялся, что кто-то из раненых может его обидеть. Александра начала разговаривать с ним во время перевязок в процедурной. В палате она с ним не говорила, чтобы не смущать народ.
– Зачем вы меня лечите? – первое, что спросил Фритц.
– Чтобы ты не умер, – отвечала Александра.
– Но я враг…
– Какой ты враг!.. Война скоро кончится.
Александре нравилось, что Фритц не заискивает перед ней, она видела по его глазам, что он пережил большие душевные потрясения и, в общем-то, не боится смерти, вернее, боится, но готов…
– У вас литературный немецкий, – сказал ей однажды Фритц, – хохдойч!
– А ты хочешь говорить по-русски?
– Очень.
– Тогда учись.
– Попробую, в плену у меня будет время, если я не погибну…
– Не погибнешь. Мы относимся к военнопленным совсем не так, как вы. Я видела один бывший концлагерь, недалеко отсюда…
– Да, я знаю, – сказал Фритц, но все-таки у него не хватило духу сознаться, что именно в этом лагере он служил охранником.
Фритц пробыл в госпитале недолго, раны его почти совсем зажили – грамотное лечение и молодой организм взяли свое.
Через неделю Папиков сказал Александре:
– Больше мы не можем его держать, особист настаивает. Сделайте последнюю перевязочку – и сдадим. Теперь он точно выживет, на сто процентов.
Конечно, Александра должна была ненавидеть любого немца за те страдания, что его народ причинил ее народу. Теоретически да, наверное, должна, а на практике получилось, что она спасла «немчика», как своего. Хотя, нужно сказать, в это время ни она, ни миллионы людей в мире еще не знали, какие чудовищные злодеяния происходили в немецких концентрационных лагерях.
Перевязка была светлым утром. Процедурная сияла от солнечного блеска, и в каждой вещи, в каждом глотке воздуха как бы содержался заряд радости и надежды.
– Я буду помнить вас всю жизнь! – сказал Фритц.
– Ладно. Смотри, какой ты разрисованный! – сбивая его пафос, улыбнулась Александра. – У тебя не шрамы, а цветки!
Поджившие, розоватые по краям и белые посередине каждой осколочной отметины шрамы у Фритца были действительно редкостные: шрам, похожий на лепестки на стебле, на левой половине груди и почти такой же цветок на правом плече, много цветочков-шрамиков на бедрах, да еще левое ухо со срезанной мочкой – такого не захочешь, а запомнишь.
– Ты прямо-таки в рубашке родился: столько ранений и все по касательной. Одевайся! – Александра кивнула на почти новые сапоги и почти новую солдатскую одежку и шинель – нашенскую, только без погон. Народу в госпитале умирало много – ничьей одежды хватало.
В коридоре послышался гулкий топот.
– Конвой за немцем, – заглянул в процедурную нагловатый солдатик из особого отдела. – Велено доставить.
– Сейчас доставишь. Дай ему штаны надеть, – с нарочитой грубостью сказала Александра.
А с Фритцем они не обменялись никакими словами: его увели в его жизнь, а она осталась в своей.
XXIII
Дни катились, как с горы, кубарем. Раненых было много, свободного времени мало, так что Александра и не заметила, как подкралась зима. Первый снег лег в конце ноября, даже не лег, а намело его большими лоскутами по двору фольварка, по центральной аллее, которую теперь стало видно от дерева до дерева. Сквозь двойные рамы огромного окна в операционной открывался широкий обзор. Однажды Александра выглянула в окно и радостно вскрикнула:
– Снег!
– Действительно, – сказал Папиков, – похоже на снег.
– Ой, правда, какой беленький, как у нас под Воронежем! – добавила «старая» медсестра Наташа.