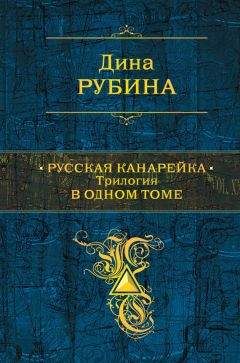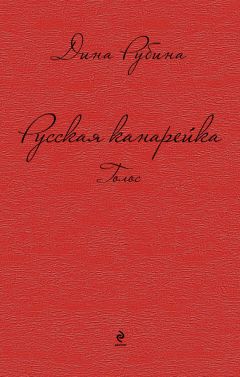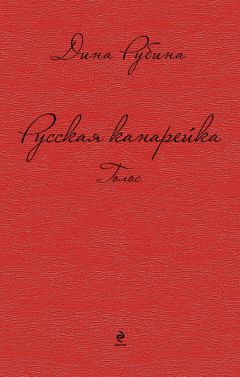– Я не задену его птичьего мозга… я осторожно, самым кончиком ножа…
…тот уже не берегся, безумец, уже не сдерживал голоса; готовился к жертве во имя умершего:
– Гюнтер! – вопил. – Гюнтер! Канарейка будет петь, ты слышишь? Она будет петь для тебя!..
В коридорах загрохотали ботинки бегущих на его вопли охранников, но Леон не чувствовал ни взрыва дикой боли и огненной тьмы, ни кровавых ручьев, что текли по его лицу; не слышал, как в комнату ворвались Умар с подручными, как навалились и поволокли прочь великана, яростно его избивая, и тот, не сопротивляясь, кричал:
– Это шпион! Он говорил со мной по-арабски! Он говорил по-арабски!!!
– Собака, собака! – в ответ кричал Умар. – Он все испортил! Кто дал ему ключ, йа амиль маштап[78], собака, мерзавец?! Кто дал ключ?!
А больше всех старался Абдалла, психопат-заика, кто и выдал Чедрику ключ «на минутку» (вернее, продал: за прощеный карточный долг). Он старался бить того по голове и в пах, чтоб поскорей отключился. Бил, исступленно вопя:
– Ну-ка, Джабир, вырви его вонючее нутро!!!
А тот, избиваемый сворой отборных молодцов, крякал, выл и качался – раненый медведь, – продолжая выстанывать свое безутешное: «Гюнтер, Гюнтер!» – вздымая над головой два пальца, испачканных в крови Леона; два пальца, победно расставленных буквой V…
10В начале декабря, да еще ночью, на Кипре холодно и неприютно. Резкий наждачный ветер бренчит вывесками, скребет по кирпичной стене голыми ветками деревьев и гонит мусор по пустой сейчас улице Ледра, от автобусной станции до самого КПП.
Мало кто назвал бы это место привлекательным, хоть это и центр Никосии. Буферная зона между греческим и турецким Кипром, контролируемая войсками ООН, огорожена бетонными плитами, колючей проволокой, мешками с песком… Типовые будки и полосатый шлагбаум довершают угрюмое оформление некоего драматического действия, которое должно здесь произойти через считаные минуты; действия отнюдь не театрального, хотя на воротах «Ледра-Палас» даже присутствует двусмысленная вывеска «UN Exchange Point», что можно перевести как «ооновский пункт обмена».
Напряжение растет, ибо с обеих сторон – и с кипрской, и с турецкой – к КПП уже подъехали машины с дипномерами.
Все обговорено и размечено по минутам: в момент, когда поступит сигнал от длинного, как Паганель, и чем-то раздраженного чина миротворческой миссии ООН, произойдет обмен того на этого: сопровождающие должны вывести пленников в специально огражденное пространство – одного из турецкой зоны, другого – из греческой.
Оговорено и то, что к процедуре обмена не будет допущен ни один представитель прессы. Да собственно, и группы сопровождающих (они же принимающие) немногочисленны: с «французской», то есть греческой стороны КПП – двое мужчин в гражданском, а также доктор Набиль Азари и врач, пожилой, но жилистый, подбористый человек с чемоданчиком в руках. А то, что за их спинами чуть поодаль маячит меланхоличного вида чернобровый верзила с ямочками на гладко выбритых щеках, – так это просто некий ковровый коммерсант, личный друг доктора Азари и дальний родственник семьи того пленника, которого доставили из Бейрута. Коммерсант выглядит так, будто напросился поглазеть на процедурку, и в этом смысле, раздраженно думает невыспавшийся чин ооновской миссии, вообще непонятно, кто его пустил тут околачиваться, среди серьезных людей.
Человек восемь в форме миротворческих сил ООН, с передатчиками в ушах, прогуливаются вдоль бетонных блоков забора с греческой стороны, иногда перебрасываясь словами с солдатами в патрульном джипе.
Наконец, старший из «миротворцев» вытягивается, напряженно выслушивая кого-то невидимого в ухе, и машет рукой остальным, а те быстро растягиваются по периметру небольшой «сцены».
Несмотря на вполне исправные фонари, их желтый недостаточный свет довольно слабо освещает напряженное, тихое, стремительное действие. Практически одновременно из обоих выходов показываются: «французы», с двух сторон тесно приобнимающие невысокого плотного человека в теплом пальто и шерстяной, альпинистского вида шапочке с легкомысленным помпоном, и – навстречу им из противоположного выхода – выдавливается сплоченная группка молодых чернобородых мужчин, за которыми не сразу виден… не сразу видно… почему-то не сразу… эти колеса… что происходит?!
Происходит заминка, невнятица мгновенных судорожных движений «французской стороны». Генерала Бахрама Махдави резко тормозят те двое, что предупредительно приобнимали его мгновение назад. Тогда один из «турецкой группы» выкатывает перед собой инвалидное кресло, где в тренировочном костюме (в такую холодрыгу!) сидит… подросток с невероятно буйной гривой длиннейших кудрей, с повязкой на глазах…
На две-три секунды обе группы застывают, как для исторического снимка. Вот вперед ринулся доктор Азари, потрясая руками и от волнения крича на арабском:
– Что за повязка?! Снимите ему с глаз повязку!
И, вдруг все поняв, замирает, беспомощно повторяя:
– Вы обещали! Вы дали слово! Это бесчестно! Это кровавое зло!!!
Оглянувшись, он нервно переходит на английский:
– Остановите генерала! Не передавайте им генерала!
В этот самый опасный миг из-за спин застывших в замешательстве мужчин выныривает тот странный легкомысленный свидетель, тот случайный чей-то приятель или родственник – короче, ковровый деляга с ямочками на щеках… Одним движением руки властно отстранив совсем потерявшего лицо доктора Азари, он мягко, как пантера, устремляется прямо в гущу неприятеля и, захватив ручки кресла, катит его «к своим», а за его спиной бородатые бросаются к генералу, с обеих сторон подхватывают его и чуть ли не на руках выносят прочь, на турецкую сторону…
Генерал уже не важен, он – отыгранная карта, сейчас важнее всего – врач, спешащий к инвалидному креслу, в котором странно неподвижно и бесчувственно, видимо, под действием наркотика, сидит слепец.
Но прежде чем того касается врач, Шаули прижимается щекой к его затылку и тихо говорит:
– Это я. Ты слышишь? Ты слышишь?! Все кончилось…
* * *
Он проклинал себя за недальновидность. Еще ничего не зная, обещал надоедливому старине Авраму (как тот узнал, черт побери, о сроках, шпион у него, что ли, имеется в конторе?), что на последнем перегоне, уже на военном аэродроме пустит его «обнять мальчика». Какое там обнять… Идиот! Как он, Шаули, мог надеяться, что Леон вернется прежним!
Теперь еще возись со стариком, объясняй ему, почему он не может сдержать обещание.
Накануне, перед вылетом их группы на Кипр, Аврам позвонил и сказал: ты не забыл? Помни, я буду ждать прямо там, у входа на летное поле. Спросил, не нужно ли мать подготовить. Шаули, мысленно выругавшись, осторожно ответил: пока не стоит.
Перед тем как самолет из Никосии, уже с Леоном на борту, поднялся в воздух, Шаули позвонил Авраму предупредить: извини, мол, в другой раз, попозже, сейчас не до тебя.
– Да я уже здесь, – перебил его Аврам. – Я здесь всю ночь провел, в машине. А ты как думал? Ведь это мой сын, понимаешь? Мой сын.
И Шаули вдруг смутился, стал оправдываться – мол, я не в том смысле, просто не стоит сейчас смотреть на него, он не в лучшем виде.
И опять Аврам перебил:
– Ты что, меня бережешь?! Или я не был солдатом, когда ты, сопляк, мамку сосал?!
Так что вопрос был снят.
И Аврам подоспел, как раз когда по трапу сносили Леона. Подбежав, увидел его, укрытого одеялом, и в нерешительности остановился: тот вроде бы спал – поди разбери, с этой повязкой. А может, врач ему что-то вколол.
Старик растерянно поднял глаза на Шаули, молча вопросительно провел ладонью по лицу, как бы сбрасывая на землю повязку. Шаули так же молча покачал головой. И тот все понял… Забрался внутрь «скорой», сидел рядом с носилками, держал Леона за руку, монотонно, хрипло повторяя:
– Мальчик… мальчик…
И по тому, что, отнимая руку, возвращал ее мокрой, было понятно, что он плачет не переставая.
– Ну, будет тебе, – вдруг проговорил Леон тихим и внятным голосом. – Уймись.
И сразу стало ясно, что ни минуты он не спит да и не спал – с тех пор, как пришел в сознание там, в бункере; с тех пор, как пришел в сознание и увидел черное солнце Страшного суда.
И руку Аврама сжал левой рукой неожиданно крепко, жестом попросив наклониться ниже, еще ниже…
– Мать… – сказал ему в ухо. – Не стоит ей пока…
– Хаз ве халила![79] – воскликнул Аврам и молча затрясся, уже не таясь.
11Ей приснились ее грядущие роды. Оказывается, это вовсе не больно, легко и даже весело, и как бы все между прочим… Смутного продолговатого ребенка плавно уносят куда-то прочь, а над ней склоняется врачиха с лицом фигурного тренера Виолы Кондратьевны и ласково говорит: