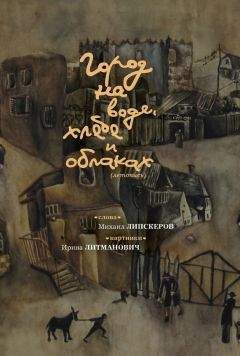И все население Города, как я уже писал (или не писал?) высыпало на свои улицы и потекло на площадь Обрезания, чтоб выяснить, с чего бы это посторонний Городу Осел орет, будя мирных граждан, которым завтра на службу, в хедеры, медресе, приходскую школу, в ремесла, а вот тут приходится вставать и бегти полностью неглиже на люди, среди которых – противоположный пол. И не все хотят, чтобы этот противоположный пол видел их неглиже. И все ошиваются на площади Обрезания, чтобы узнать, чего орет Осел и чего орет Моше Лукич Риббентроп. И ничего не понимают. Потому что те орут из-за когнитивного диссонанса, а что это такое, не знают ни они, ни никто в Городе. И я тоже не знал, хотя многократно читал про это в Википедии, но также многократно это забывал. Ну, точно так же забывал значение слов «семиотика» и «семантика», хотя и получил однажды благодарность от известнейшей чувихи по этому делу из города Тарту за глубокое понимание проблемы, связанной с семиотикой и семантикой. Хотя суть самой проблемы для меня оказалась скрытой. Но не в этом дело! А в том, что войско графа Витгенштейна и казаки казачьего атамана Олешко Гуся, войдя в целях резни и грабежа или грабежа и резни в Город, наткнулись не на тихое безропотное обывательство, с радостью открывающее свои денежные тайники, а затем любезно подставляющие горло под сабли и ножи победителей, а озлобленную от недосыпа экуменическую толпу, ищущую повод, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать свой гнев по случаю недосыпа. И совместный рев Осла и Моше Лукича очень этот гнев стимулирует. Разумеется, никто из жителей даже и не пытался посягнуть на источники рева, потому что Осел уже начал приобретать некие сакральные черты, так что девица Ирка Бунжурна уже попыталась пририсовать ему некое подобие нимба. Но тут домой вернулся он. На сей раз он был при майке, чем вверг Ирку в ступор, и карандаш выпал из ее руки. Но не совсем потому, что он был при майке, а потому, что он был только при майке, а больше ни при чем. Потому что все остальное (по его словам) он обменял на галстук в горошек и букет из одного тюльпана И даже почти трезвый. И это было такое счастье, что девица Ирка забыла за карандаш, за Осла, набирающего сакральности, и за нимб, легитимизирующий эту самую сакральность. И это счастье было у Ирки Бунжурны три или даже четыре раза подряд. Ведь может же, когда хочет! Ох…
А Моше Лукич уже был фигурой сакральной. Он был в Городе с самого его основания и до него. Можно было сказать, что на нем был основан Город его. И все его любили, несмотря на пианство и некоторую глуповатость. А может быть, именно за нее. Потому что, как думаю я, Город жив, пока в нем живет хотя бы один дурачок. А уж за алкашей я и не говорю. Это чистой воды когнитивный диссонанс.
Так что немцы и казаки, вошедшие на площадь Обрезания с меркантильными целями, а по ходу дела – за веру православную, за Русь Святую, за кровь отцев и слезы матерей, огребли по полной. Гремучая смесь иудаизма, христианства и ислама сокрушила нечестивцев в лице немецкого казачества, и опустела Запорожская Сечь на Днепре, и Запорожская Сечь на Рейне. Хотя… Вот ведь какой парадокс: порогов на Рейне не было, а Запорожская Сечь была, хотя это факт недостоверный. Никому, кроме меня, неизвестный, а потому никем и нигде не подтвержденный. Так что ваша вольная воля – верить мне или нет. А казаки как начали бежать из-под отсутствующих стен Города, так и бежали, пока незаметно для себя не оказались в канадской провинции Квебек, где занялись хлебопашеством, как будто на Запорожье для этого не было места. А немцы Витгенштейна оказались в американском штате Пенсильвания, где занялись тем же, что и казаки в канадской провинции Квебек.
А население Города, одержав победу, разошлось по домам досыпать. Ну, а на площади Обрезания остались лишь Осел и Шломо Грамотный. А Ванду Кобечинскую увел домой пан Кобечинский, посчитавший неприличным нахождение несовершеннолетней девушки в компании чуждого Осла и Шломо Грамотного, не славящегося в Городе высокими моральными устоями. И что мне показалось странным, то этому обстоятельству была рада девица Ирка Бунжурна, хотя только что три или даже четыре раза была счастлива. Ох, чувствую, что…
Да, и когда все, казалось бы, стихло, на площадь Обрезания на коляске въехал Шломо Сирота, который из-за невысокой скорости к толковищу не поспел, но не принять участие в разборке хотя бы постфактум посчитал для себя неприличным, так как еще в молодости… И раз прозвучало это сакраментальное выражение «так как еще в молодости», то мы, господа, окунемся в слегка подплесневевшую молодость Шломо Сироты и почерпнем чуток из реки по имени «Начало Шломо Сироты».
Надо тебе (прости, не помню, мы перешли на «ты» или нет; пили ли мы брудершафт или нет, но не обессудь, я со столькими людьми пил брудершафт и со столькими не пил, что всех и не упомню, так что второй раз не обессудь, если я то «ты», то «вы», но можешь(те) быть уверен(ы) – со всем уважением), любезный мой читатель, мой верный попутчик по векам, судьбам и улицам моего Города, сказать, что Шломо Сирота не всегда был сиротой.
Было время, когда у него были родители, весьма себе приличные люди, тихие незамысловатые евреи. А кем же еще могли быть родители ребенка по имени Шломо, если не евреями?
Они жили в местечке с нередким для еврейских местечек названием Хацепетовка, что не так уж далеко от Севильи и уж совсем пару шагов до Бердичева, когда он еще не был Бердичевом. Более того, его вообще еще не было. Но должен быть, ибо не может быть так, чтобы Бердичева совсем не было. А если он нужен, то в конце концов он и появился. И вот недалеко от него, пока его не было, и жили родители будущего Шломо Сироты. Отца будущего Шломо звали Гиршем бен Гиршем, и был он шорником. Из местечка Хацепетовка. А местечко Хацепетовка, скажу я тебе (вам) – это не мой город Город, но тоже ничего себе, иначе кто бы в этом местечке жил. А раз в местечке жил будущий отец будущего Шломо, будущего Сироты, то где-то должна была жить и его будущая мать. А раз должна, то где-то жила. А если где-то жила, то почему бы этому где-то не быть в Хацепетовке? Так вот так вот оно и было. И звали ее Сима. И она по неизвестным причинам была сиротой. А как попала в местечко Хацепетовка, было неизвестно. Просто однажды утром, когда в местечке Хацепетовка и в его окрестностях была весна и шел дождь, но не такой хрестоматийный весенний дождичек ситцевого состояния, а какой-то невеселый дождь, Гирш бен Гирш шел себе неосмысленно, подгоняемый бродившими в нем весенними соками. Так как уже год как отпраздновали бармицве, а это для тех, кто понимает, сами понимаете что. И вот он идет себе и идет, и в нем все бродит и бродит, а тут он видит, как на мертвом дереве, которое много веков назад давало яблоки сорта ранет, а уже много веков яблок не дает, а лишь память о них, распустились сиреневые цветы. Или фиолетовые. Я всегда путаю сиреневый и фиолетовый цвета. Об этом лучше спросить девицу Ирку Бунжурну, которая нарисовала эту яблоню сорта ранет, нарисовала невеселый, но весенний, дождь и поместила под ним себя, а себя – под зонтиком. И вид у нее тоже был так себе. Когда она прислала мне эту картинку, я понял, что ее блуждающий по непонятным орбитам спутник жизни в настоящее время опять отсутствует, но не безнадежно отсутствует, а с надеждой на возвращение, иначе бы Ирка никогда не нарисовала на многовеково мертвой яблоне сиреневые (фиолетовые) цветы.
И вот шорник Гирш бен Гирш с бродящими в нем весенними соками натыкается на стоящую под дождем девицу под зонтиком. Не то чтобы впрямую натыкается, а метафорически. То есть он натыкается на нее взглядом и мгновенно понимает, что бродящие в нем весенние соки бродили в верном направлении. И он останавливается перед девицей под зонтиком, под ранетовым деревом, под невеселым весенним дождем. И дождь пошел как-то повеселее. Не то чтобы прямо в пляс, а с хорошим настроением. И девица сказала что ее зовут Сима это я ее так назвал а почему ее так зовут и кто ее так назвал она же не знает что это я так ее назвал и кто ее привел в местечко Хацепетовка и поставил под яблоневое дерево сорта ранет она не знает потому что не знает что ее нарисовала девица Ирка Бунжурна и ей было очень печально но когда пришел ты мне почему-то стало лучше и я очень не хочу чтобы ты уходил а если и уйдешь то вместе со мной и мне не важно кто ты такой но я знаю что это Господь поставил меня под это яблоневое дерево сорта ранет а тебя насытил весенним соками чтобы ты наткнулся на меня возьми меня за руку какая теплая и мы вместе пройдем с тобой под хупой и у нас родится мальчик и мы назовем его Шломо и он будет жить долго долго долго долго…
И Гирш бен Гирш взял ее за руку, и они прошли под хупой, и она понесла… И было уже вот-вот…