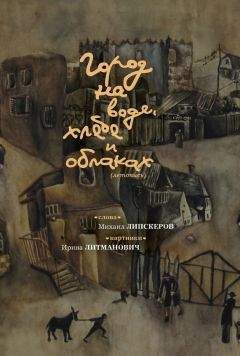– Инфляция, акцизы, налог с продаж…
Никто ничего не понял. Все смотрели на раввина с некоторым недоумением. И страхом. Ибо не может Город жить без раввина. А какой же это раввин, если произносит какие-то чудовищные слова, которые ни один нормальный еврей слыхом не слыхивал, в глаза не видывал? Хорошо, что дети этого не слышали. Но их слышал маклер Гутен Моргенович де Сааведра, пришедший на звуки мугамов по причине бессонницы, возникшей по причине мугамов.
– Это значит, евреи и прочие господа, что цены на вино выросли на величину стоимости выставочной вставной верхней челюсти. Так это и надо объяснить Шломо Грамотному.
Народишко успокоился и решил, раз уж он в хлебной лавке, прикупить хлебца, потому что… потому что… ну как без хлеба? Эко вы, господа. И вот надо же случиться такому дикому совпадению. В тот самый момент, когда Шломо Сирота, Мордехай Вайнштейн и Аарон Шпигель решили прикупить хлебца в хлебной лавке Бенциона Оскера, выяснилось, что инфляция, акцизы и налог с продаж к хлебцу тоже отношение имеют. Пришедшие глянули на Гутен Моргеновича, тот глянул на Бенциона Оскера. И зачем-то вертел в руке пистоль, подарок капитана Флинта. И Бенцион Оскер наполовину скостил инфляцию, акцизы и налог с продаж. А вторую половину согласился обменять на выставочную вставную верхнюю челюсть, которой зачем-то клацал Мордехай Вайнштейн. И через некоторое время из хлебной лавки снова зазвучали мугамы, в которых появился пятый голос. Голос Гутен Моргеновича де Сааведры. Раз уж все равно бессонница.
И вот наша троица с вином и хлебом вернулась на площадь Обрезания к Шломо Грамотному, ну и Ослу при нем, чтобы немножко выпить вина и съесть хлеба. Не просто так выпить и не просто так съесть, упаси боже, а чтобы все были здоровеньки. И вот, когда выпил Шломо Сирота, когда выпил Мордехай Вайнштейн, когда выпил то ли ювелир, то ли фальшивомонетчик Аарон Шпигель и пришла пора выпивать Шломо Грамотному (чтобы, вы помните, все были здоровеньки), на арене во всей своей красе явилась – кто бы вы думали? – эта несносная девица Ирка Бунжурна, которая без всякого на то моего разрешения как автора книги пришла в этот мир, который она не без оснований считала своим. Что она мне и заявила, когда я сказал (очень мягко сказал, относительно мягко, в меру крича), что она сбивает ритм повествования, в который я погрузился, чтобы ты, мой благосклонный читатель, благосклонно принял некоторые сбои в моем повествовании и простил отсутствие нарратива, без которого нонешняя литература и не литература вовсе, а так, альтернативный дым и постмодернистское выкаблучивание. Так вот эта девица заявила что в этом «своем» вы видите в своем мире она не позволит чтобы главный персонаж а именно Шломо Грамотный пил вино посреди ночи даже если чтобы все были здоровенькими а хлеб туда-сюда хватит ей того что она только только выгнала из дома своего охламона в очередной раз явившегося без майки которая разбилась при испытании новой модели самолета-амфибии ТУ-194 по пьяному делу в котором одновременно оказались охламон майка и самолет-амфибия ТУ-194 и она пришла в этот мир навеки поселиться читала Ильфа и Петрова и готова нести тяжкий крест по окормлению телесной и духовной пищей Шломы Грамотного если он будет бережно относиться к хранению маек которые пропадают по пьяному делу а значит пить Шломо сейчас фиг с маслом.
Шломо от такого напора несколько потерял свое лицо и покорно отдал свой стакан Ирке Бунжурне, которая его по рассеянности и расстройству чувств тут же и выпила и куснула хлебца. И я ее понимаю: как тут не выпить и не куснуть хлебца, если и то и другое имеется в наличии себя быть. А если эта причина вам покажется недостаточной, то присовокупите к ней изгнание охламона, на которого было потрачено колоссальное количество искреннего чувства и немереное число очень и очень приличных маек. Но местные евреи этого не знали, поэтому смотрели на Бунжурну с подозрением. Так как у них не было привычки, чтобы посреди ночи в Город являлась девица, встревала в дела евреев, выпивала вино одного из них и закусывала его хлебцем. Шломо, который с Иркой был знаком по чебуреку и еще по чему-то, о чем я уже писал, но не помню, отнесся к ее поступку спокойно. Спокойно попросил у евреев налить вина, отломить хлебца, после чего выпил вино, съел кусочек хлебца и произнес долгожданное «Чтобы все были здоровеньки». После чего свободной от Осла рукой взял за одну из Иркиных рук, не рассмотрел какую, потому что в Городе стояла ночь и деталей было не рассмотреть. И вот они, Шломо и девица Ирка Бунжурна, сидели, взявшись за руки, на площади Обрезания в компании вежливо молчащего Осла, потому что троица евреев вежливо и молча влилась в ночь и разошлась по своим домам, чтобы на следующее утро на площади Обрезания собрался весь Город для осмотра места пришествия совершенно посторонней девицы, которая выпила вино Шломо Грамотного и осталась после этого живой, и еще до рассвета держала Шломо за руку, и рука у нее не отсохла, бесстыжей, мир не встречал таких евреек, понятно, если это полячка Ванда Кобечинская, русская сестра Василия Акимовича Швайко Ксения Ивановна, впрочем, за это никто ничего точно сказать не мог. В том числе и я, который придумал всю эту историю, но в точности любовные линии в книге прочертить еще не успел. И не знаю, как быть дальше, когда Ирка Бунжурна поломала все мои планы и без всякого спроса прорвала достаточно ровную и крепкую ткань моего повествования, чтобы влезть посторонней заплатой и сбить весь ход нарратива, а без нарратива нонче никуда. Причем, сучка такая, делает это не в первый раз. И у меня есть основания полагать, что и не в последний. Потому что я ее знаю. И, чтобы вернуть течение в русло, в котором оно должно течь, запустим-ка мы на площадь Обрезания только что упоминавшуюся Ксению Ивановну. Надо вам сказать, что, несмотря на свои годы, а какие это такие «свои», я знать не могу, да и не хочу, потому что а зачем, если женщина – женщина как Ксения Ивановна, дай вам Бог всю жизнь иметь такую женщину, это я мужчинам говорю, а женщинам – не дай Бог. Потому что рядом с ней ни одна даже самая клевая чувиха не канает. И вот Ксения Ивановна встает посреди ночи в своей половине дома и чувствует необходимость пойти по воду на колодец. А должен вам заметить, что колодцев в Городе не было, а имел место водопровод, сработанный еще рабами Рима. Но если русская женщина Ксения Ивановна решила посреди ночи пойти по воду на колодец, то этот колодец непременно образуется. А если образовался колодец, то почему бы в доме Ксении Ивановны не образоваться и коромыслу с ведрами? А раз внятного ответа на вопрос «почему» нет, потому что на такие дурацкие вопросы ответов вообще не бывает, как не бывает ответа на вопросы типа «кто бы мог подумать?», «за что, Господи?» и «а по по не хо-хо?», вопросы, ходящие среди людей под лейблом «риторические», то почему бы и нет? И вот Ксения Ивановна взяла коромысло с ведрами и пошла по воду на колодец. И путь ее, как вы должны были бы догадаться, пролегал (по-моему, очень красивый оборот я придумал – «путь пролегал». Эпически звучит) через площадь Обрезания. И что видит Ксения Ивановна на площади Обрезания?! Ах! Она видит Шломо Грамотного с Ослом в одной руке и с рукой нездешней девицы – в другой. И это наносит укол в ее израненное сердце. (Чем оно уж так было изранено, сказать не могу, но уж больно красиво звучит. А я для красоты звучания продам любой нарратив, не говоря уж о правде жизни.)
И вот тут Ксения Ивановна вздрагивает своим, как я уже говорил, израненным сердцем, и площадь Обрезания расплывается в ее потускневших, но по-прежнему прекрасных глазах, и на ее месте появляется картинка, нарисованная, вы знаете кем, а я не буду называть ее имени, ибо – вот она! Сидит себе дева-разлучница и держит за руку дролю ее бывшего Шломо Грамотного, как держала ее некогда Ксюша…
Дивная история Ксюши (Ксении Ивановны)
…единственной дочки купца Ивана Никитина из купецкой слободы нашего Города, который однажды уплыл за три моря-окияна и сгибнул то ли в одном из морей-окиянов, то ли в землях враждебных, сарацинских иль эфиопских, иль, упаси господь, был сожран какими-нибудь псоглавцами, слухи о которых доходили до Города приблизительно раз в 50–60 лет. Зверями жутко небрезгливыми, жрущими все подряд в сыром виде. Ну где ж это видано… Некошерно как-то… И было о ту пору Ксюше 15 годков. Лет 120 тому. И была Ксюша в самом соку. А вещь эта для девиц опасная, потому как соки эти на волю брызнуть готовы – стоит только пальцем ласковым мужским прикоснуться. А глаза папенькиного присмотреть нет как нет, а почему нет как нет, я уже говорил.
А о маменьке летописи-сказания умалчивают. Так что и маменькиного глаза для пригляда, соответственно, тоже не было. А раз девушка созрела, то палец ласковый мужской вскорости и образовался.